Книги
Памяти Пушкина
Потому-то сравнительно мало и слабо отозвался байронизм в лирике Пушкина, хотя последнего пленила довольно рано «поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая»[573]. Самым ярким выражением байронизма был демонизм, открытый Пушкиным у Байрона и отчасти переданный Лермонтову, и тот безотрадный лирический аккорд, какой слышим в стихотворении «26 мая 1828 г.»:
и т. д.[574]
В этом стихотворении Пушкин явился на мгновение настоящим байронистом[575]. Но то не были могучие взрывы глубокого отрицания и отчаяния Байронова Каина, который разжигает Люцифер, а лишь выражение отдельных моментов колебания души, не могшей склоняться к полному и мрачному отрицанию, постоянно пытавшейся превозмочь голос демона сомнений и преодолевшей его.
Уже приступив к «Онегину» и в момент создания «Цыган» Пушкин мог прозревать то, что выразил позднее в словах: «словесность отчаяния» (как назвал ее Гёте), «словесность сатаническая» (как говорит Соутей), «словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цигарочная и пр.», «осуждена высшею критикою», и изображение «только двух струн в сердце человеческом: эгоизма и тщеславия», вытекающее из «поверхностного взгляда на человеческую природу», «обличает, конечно, мелкомыслие»[576].
Пушкин сохранял при этом уважение к образу Чайльд Гарольда[577], но восторжествовал над мрачным отношением к жизни[578], над духом сомнения и отрицания, как Гёте, поднялся до ясного и небесно-чистого созерцания Шиллера, оставшись в то же время свободным и от холодного в конце олимпийского величия Гёте и от крайнего идеализма Шиллера. Равным образом и в других отношениях Пушкин отошел далеко от Байрона и вообще от романтики, которая увлекала его во дни юности. Он так вспоминал о тех днях:
Теперь же
Пушкин полюбил
Он стал вполне начинателем того направления, которое характеризует новейшую литературу, и в своем внимании и любви к изображению простой и неприглядной действительности[582], и в любви ко всем людям: в каждой личности, как бы низко она ни пала, наш поэт умел открывать и ту или иную светлую сторону, умел находить черты человечности. То был признак не только полной гуманности, но и высокого подъема духа над безотрадным созерцанием действительности и вместе вполне трезвого и разумного отношения к последней.
Байрон заканчивал свою жизнь с чувством все большего и большего утомления и искал могилы[583]. Пушкин также испытывал было утомление и уже на 22-м году жизни писал: «Я пережил свои желанья»[584], но, в отличие от Байрона и его последователей, после «наслаждений, пиров, грусти, милых мучений, шума, бурь легкой юности», сказал:
Пушкин непрестанно искал путей нравственного обновления. Он обрел их в «трудах» вдали от юношеских
но не на чужбине, например в Америке, куда возводил взоры в конце своих дней Байрон. Пристанище для задушевных помыслов и «трудов» Пушкина нашлось в родной земле – в полной вере в духовности человека и в «высоком жребии» того народа, из среды которого вышел наш поэт.
Отзвуки Пушкинской поэзии в последующей русской литературе[586]
А.М. Лобода
«Пушкин был первым русским художником-поэтом»[587],
Эта художественная сторона пушкинских произведений общепризнана и оценена по достоинству даже в рядах той партии, откуда раздавались наибольшие нападки на Пушкина, и, например, по отзыву Чернышевского, «художнический гений Пушкина так велик и прекрасен, что хотя эпоха безусловного удовлетворения чистою формою для нас миновалась, мы доселе не можем не увлекаться дивною, художественною красотой его созданий. Он истинный отец нашей поэзии, он воспитатель эстетического чувства и любви к благородным эстетическим наслаждениям в русской публике, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась благодаря ему, – вот его права на вечную славу в русской литературе»[589].

Плоды такого эстетического воспитания показались еще при жизни А.С. Пушкина, и вокруг великого учителя стала группироваться известная пушкинская плеяда. Веяние пушкинского гения коснулось не только ближайших друзей Пушкина – Дельвига и Языкова, сказалось не только у мелких поэтов того времени, но и у таких, как своеобразный поэт-гражданин Рылеев[590], сильный и самобытный Баратынский или князь Вяземский, писатель старой школы, классик по натуре.
Поэты, выступившие на свое поприще после Пушкина, в значительной степени вызванные им, тягогели к Пушкину и были отмечены печатью ее еще в большей степени, чем современники его. Для всех последующих истинных поэтов, какого бы направления они ни придерживались, Пушкин стал величавым «гением песен сладкозвучных», законодателем формы и вообще внешних приемов творчества, живым примером того, как должно в художественных образах воспроизводить явления окружающей нас жизни и нашего внутреннего мира. Какие явления жизни заслуживают поэтические воспроизведения и какая цель последнего – это уже другой вопрос, при решении которого не всегда дорожили заветами Пушкина или же толковали эти заветы и применяли их к делу довольно произвольно. Лишь Лермонтов остался на высоте поэзии своего предшественника, на произведениях которого он в буквальном смысле вырабатывал свою собственную поэзию; остальным бремя Пушкина оказалось не под силу.
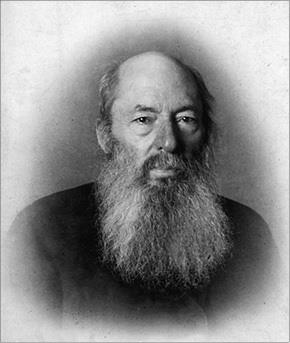
Художественная красота, искренность и задушевность пушкинской музы стали идеалом т. н. школы поэтов чистого искусства, со знаменитым триумвиратом А.Н. Майкова, Я.П. Полонского и А.А. Фета во главе. Вслед за Пушкиным они