Книги
Михаил Юрьевич Лермонтов. Тайны и загадки военной службы русского офицера и поэта
Поэтому предположение советского писателя и филолога Н. Г. Долининой, высказанное ею в книге «Герои разного времени», что княжна Мери могла выйти замуж за Грушницкого, преодолев сопротивление маменьки, по меньшей мере, неверны. Достаточно вспомнить «Капитанскую дочку» Пушкина, когда Маша Миронова говорит молодому Гриневу – без родительского благословения не будет нам счастья. Нравы в те времена были гораздо строже, чем это принято считать в настоящее время, ведь распущенность при императорском дворе отнюдь не означало, что она была распространена во всем обществе. Надо отметить, что и верховная власть часто стояла на страже патриархальных устоев. Так, сын упоминавшегося ранее бывшего главноуправляющего Грузией барона Розена – Александр, в 1842 году в чине штабс-капитана по решению императора был отдан под суд и отправлен в отставку только за то, что, едва получив разрешение царя, женился на дочери генерал-лейтенанта В. Д. Иловайского, не имея на то согласия ее отца.
И такие примеры не были единичными. Так что осуществить свои желания Грушницкому вряд ли удалось бы, учитывая его скромное состояние. Впрочем, он и сам говорил Печорину: «Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?».
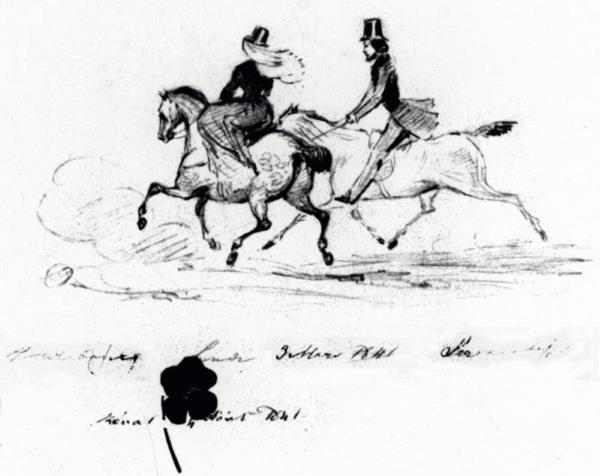
Когда Грушницкий едет вместе с княжной Мери, то косвенно ей признается, что не имеет значительного состояния: «Что для меня Россия!… страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением». Увы, меркантильность проникала в офицерское сословие и, как с иронией замечает Печорин, «княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают».
Поэтому Печорин говорит Грушницкому правду: «Она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное…». Банальный житейский финал и Печорин ясно осознает его неизбежность.
Лермонтов знал и не принимал развращающую власть денег, и потом привычка к равенству, привитая в юнкерской Школе, побуждала его смотреть на своих сослуживцев не с точки зрения их происхождения и богатства, а с точки зрения их действительных заслуг и действительных боевых качеств.
Что же касается «пылкого сердца под нумерованной пуговицей и образованного ума под белой фуражкой», то на эту тему было написано очень много – нет смысла останавливаться на этом подробно. Как уже указывалось выше, в рядах Кавказского корпуса числилось много разжалованных декабристов, некоторые из которых принадлежали к высшей аристократии, в частности, А. И. Одоевский и В. М. Голицын.
Но были и другие пониженные в чинах офицеры, поведение которых ранее не укладывалось в строгие рамки военной дисциплины. Так, например, уже упоминавшийся Дорохов был три раза разжалован в солдаты, по официальному определению – «за шалости», то есть, за грубые нарушения существовавших тогда воинских порядков. Но, как это ни странно, именно такие военные великолепно держали себя в бою [23].
Как уже отмечалось выше, по выражению одного из кавказских офицеров, графа К. К. Ламберта, в ту пору существовали только две дороги в России: первая, для немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, для всех остальных, вела на Кавказ [24]. Но вторая дорога давала возможность сделать карьеру небогатым и неродовитым дворянам, если они сумели отличиться в боях и получить боевую награду. На это, видимо, и надеялся Грушницкий.
Печорин дает краткую характеристику своему приятелю: «Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик». Наши литературоведы, как отмечалось ранее, очень часто путали георгиевский солдатский крестик с офицерским орденом Святого Георгия. Первоначально эта солдатская награда называлась так – «Знак отличия военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия». Она была учреждена указом императора Александра I в 1807 году как награда для нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость». Но знаки ордена получали и офицеры, и даже генералы – М. А. Милорадович был награжден им после битвы при Лейпциге в 1813 году.
Следовательно, это была почетная награда, открывавшая Грушницкому возможности карьерного роста. Что касается толстой солдатской шинели, то обычно разжалованные офицеры и юнкера носили, как правило, шинели из тонкого сукна, подчеркивая тем самым свое отличие от других солдат – выходцев из низших сословий. Такую шинель, в частности, одевал разжалованный в солдаты за дуэль бывший корнет Бронин из повести Н. Ф. Павлова «Ятаган», изданной в 1835 году. Она вызвала крайнее неудовольствие императора Николая I, хотя ее высоко оценил Пушкин, а также Чаадаев и Белинский. Основная сюжетная линия повести – трагическая любовь ее главного героя Бронина к княжне Вере и его страшная смерть, обеспечила повести значительную популярность в образованных кругах русского общества. Можно предположить, что ее прочитала и княжна Мери, что косвенно подтверждает доктор Вернер, когда говорит Печорину, что княжна уверена, «что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль». Грушницкий, вероятно, тоже читал эту повесть, потому что, как говорит о нем Печорин, его «цель сделаться героем романа» и, следовательно, солдатская шинель должна была помочь ему осуществить это желание. «Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель».
Печорин, как и создатель его образа – Лермонтов, не любит неестественность и фальшь, которой переполнен Грушницкий. В обыденной жизни это может быть и не такой уж большой порок, а в бою? Именно поэтому он мгновенно, возможно, несколько грубо и бестактно, приземляет Грушницкого после того как княжна Мери подняла его стакан. Этот эпизод привлек внимание Шевырева, который так охарактеризовал героиню этой повести: «Мы любим в ней то сердечное человеческое движение, которое заставило ее поднять стакан бедному Грушницкому… но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка» [26]. В данном случае критик не хочет понять возможные и вполне обоснованные опасения матери. Ведь княжна получила строгое воспитание и любой такого рода поступок мог вызвать нежелательные пересуды и сплетни, что могло ей сильно повредить в будущем. В конце концов, она могла бы остановить мать или попросить кого-нибудь другого поднять стакан.

Диалог Печорина с Грушницким весьма показателен в данном случае: «Разве ты не видал? – Нет, видел: она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку». Здесь наблюдается четкое противопоставление реальности, порой грубой и циничной («надеясь получить на водку»), и слащавой ее романтизации – «душа сияла на лице ее». Печорину не нравится этот напыщенный стиль общения, он понимает, что русский офицер не должен так говорить, он не должен быть искусственным – за таким не пойдут в бой.
Среди исследователей нет единого мнения, с кого был нарисован образ Грушницкого. Эмилия Шан-Гирей утверждала, что Михаил Юрьевич списал Грушницкого с Н. П. Колюбакина, с которым поэт познакомился в госпитале в Ставрополе. В воспоминаниях известного мемуариста К. А. Бороздина, встречавшегося с возможным прототипом, – уже генерал-лейтенантом в начале шестидесятых годов, также сообщается: что в романе Лермонтов в лице Грушницкого вывел Колюбакина, который это знал и, от души смеясь, простил ему эту злую на себя карикатуру» [22, с. 357]. Это естественно, генерал был умным и образованным человеком и прекрасно понимал, что Грушницкий – собирательный образ. Можно предположить, что в нем было что-то и от Мартынова, как утверждал сослуживец и секундант Лермонтова Глебов в разговоре с Боденштедтом, и от других офицеров того времени.
Но почему Печорину инстинктивно не нравится Грушницкий? Тот способен на ложь и правда не может быть для него святыней. Печорин это чувствует.
У литературных критиков стало общим местом говорить, что на поведение Грушницкого повлияли повести декабриста А. А. Бестужева-Марлинского. Но характерная для них несколько искусственная сентиментальность, принятая за норму поведения некоторыми военными, конечно, не составляла черту самого писателя, который был не только модным литератором, но и боевым офицером. Донесения, которые он писал, отличались точностью и наблюдательностью. Так, его описание осады Дербента горцами в 1831 году, очень лаконичное, но емкое по сути, почти лишено всяких эмоциональных оценок. Героическая смерть этого талантливого писателя-декабриста у мыса Адлер в 1837 году породила множество романтических легенд, поскольку его тело так и не было найдено.
Самому Печорину в его отношениях с княжной Мери важно понять – до какой черты он сам хочет их довести, – здесь вопрос не столько о будущем молодой неопытной девушки, здесь вопрос о его чести как русского офицера. Как справедливо указывает известный литературовед и богослов С. Н. Дурылин, Печорин отказался ответить взаимностью на девичью любовь, он разорвал едва наметившиеся отношения, «как прервал бы такой опыт со всякой другой девушкой, в которой нашел бы такой же серьезный отклик, как у Мери» [26]. Но почему он прерывает такой опыт? Не потому ли, что не может перейти черту, которая ставит под вопрос его честь, а она для него важнее, чем все остальное. И ведь это касается всех сторон его жизни, и особенно военной службы.
Печорин, как это ясно показано в романе, был хорошо знаком с ситуацией на Кавказе, он знает о привычках кавказских офицеров перенимать обычаи войны и форму одежды у горцев. Но сочетание «черкесского с нижегородским», которое свидетельствует о полном отсутствии вкуса и меры, для него как гвардейского офицера – просто недопустимо. «Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы».