Книги
Петербургский текст Гоголя
Подобному истолкованию способствует «универсальное» прозвище героя. Уже не раз отмечалось, что украинское имя Хома перекликается с Homo (лат. «человек вообще») и евангельским «Фомой неверующим», а бурсацкая кличка Брут (лат. «простак, тупица; грубый, жестокий») – была созвучна укр. бруд – грязь[650] (подробнее об этом скажем далее). Однако действительное значение имени Фома (др.-евр. «близнец») позволяет интерпретировать сюжет как историю о разлученных близнецах, из которых один «небоже» – сирота, несчастный, обездоленный, неимущий (в том числе вида и Дома) – посвящен Богу, а другой – прекрасный, удачливый, любимец и наследник родителей (родителя) – демоническим силам. Это две половинки андрогина, которые обречены искать друг друга, притягиваться, но никогда, из-за разной направленности, не могут стать единым целым или быть вместе (мотив очень важный для Гоголя, возможно, потому что был биографическим: моложавую красавицу М. И. Гоголь иногда принимали за старшую сестру ее невзрачного сына). В этом случае «богатейший сотник» играет двойную роль: и «страшного отца», который вправе ужасно наказать за ослушание, даже убить свое дитя, или сказочно вознаградить золотом за службу, или страшно отомстить за его смерть, и «отца неправедного» (как Голова в повести «Майская ночь, или Утопленница»), кто отрекается от своего дитя и/ или его не признает, не заботится о храме Божьем в своем селении, да и «храме души» своих детей. Тогда понятно, почему Хоме так нравится это село и почему он не может уйти – до разрешения конфликта с отцом, а козаки вроде и готовы отпустить героя, но как-то так само собой получается, что не отпускают.
Этот конфликт дублируется на нескольких уровнях. Изначально поиск героем Софии (Церкви и Премудрости) обращается в поиски сиротой приюта и Дома (ведь Хома идет
«Земное» повторяется на уровне животных-близнецов: волков и собак – то сходящимися, то расходящимися мотивами (свирепости, насилия/охраны, лая/воя…). И потому волчий вой как знак дикой «земляной» жизни, своеобразная замена «волчцов» (в данном контексте антитеза «возвышающему» колокольному звону) звучит ночами перед встречей Хомы с ведьмой, перед последней его службой и перед явлением
В эпилоге повести поруганным храмом предстает и опустошенная, «мертвая» душа. Так, товарищ Хомы, бывший богослов Халява стал «звонарем самой высокой колокольни» в Киеве – то есть отчасти вестником Божьим[653] в священном граде, откуда распространялось по Руси православие. Но при этом герой остался во власти земли: постоянно «являлся с разбитым носом», а во хмелю, перед тем как спрятаться «в бурьяне… не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога…» (II, 218), – чем как бы восполнил свое земное бытие, ведь
От «Вия» становится «видимо далеко во все концы» гоголевского творчества (ср. «подземную» и «подводную» тематику предшествующих «Вечеров» или всеобъемлющий страх в комедии «Ревизор»). Подземный ход увлечет Андрия «под высокие темные своды» католического собора. В мрачном подземелье возле православного храма полякам является призрак казненного предводителя козаков – «кровавого бандуриста» (см. об этом выше, в Гл. II). В полутемной церкви будут молиться одинокие, ослепленные враждой герои «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – каждый о своей, но одинаково неправедной победе в тяжбе из-за пустяков, на что оба не жалеют ни денег, ни оставшихся им лет жизни. Старая подошва от сапога выглянет из пыльной кучи хлама в доме скряги Плюшкина. Романтические оппозиция и двойничество земного и небесного усложняются Гоголем за счет переосмысления высказываний, цитат, ситуаций из Евангелия и Библии, за счет исторических, фольклорных и религиозных ассоциаций, образуя «притчевую подоплеку» текста, ныне «затемненную» для исследователя, а тем более читателя. И один из ее главных элементов – изображение храма.
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1831) черты величественного «храма природы» обнаруживало самое начало цикла: «…когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул… На нем ни облака. В поле ни речи… серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю…» (I, 111). Здесь, по мысли автора, естественному христианскому сообществу и природному храмовому пространству его жизни противостоит мир инородный, ночной – подземный в повестях «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть», подводный, русалочий в повести «Майская ночь, или Утопленница», холодный – «воздушный» и петербургский – в повести «Ночь перед Рождеством» (а еще ад-берлога, где живет черт), откровенно необычный, дьявольский, но по-своему естественный – в повестях «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место», а также инославный мир «чужой земли», где «и люди не те, и церквей Христовых нет…» (I, 244), – в повести-легенде о «страшной мести» за предательство веры, и пошлый мир современной автору действительности, лишенный «высокого», без живых, естественных человеческих отношений, – в якобы «неоконченной» повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
Народный мир-храм сам отторгает дьявольское начало и сохраняет естественное равновесие между добром и злом – основу жизни. Однако дьявольское постепенно «прорастает», как мертвец-первопредок в повести «Страшная месть», сотрясая мир и человека, и мирские соблазны, распри и недоверие привносятся в церковь. В храм Диканьки, где кузнец Вакула изобразил на стене «Святого Петра в день Страшного суда», ходит и ведьма Солоха, отвлекая прихожан и самого дьяка от молитвы. Там даже во время Рождественской службы многих одолевают мирские заботы и страсти.
Мотив гибельного искушения человека искусства современным миром главенствует в повести «Портрет». Религиозный живописец запечатлел ужасного ростовщика с мыслью использовать это для «священного изображения» в храме, а когда осознал содеянное, то удалился в монастырь, где со смирением стал искупать свой грех «подвигами» и созданием высоких, истинно христианских произведений. Обветшавшая монастырская церковь со «множеством деревянных почерневших пристроек», для которой художник-монах написал «картину, изображавшую Божию Матерь, благословляющую народ» (III, 442), противопоставлена петербургскому «ветхому дому» ростовщика Петромихали, дому «со множеством пристроек… на Козьем болоте» (III, 431) – своего рода «антихраму», где может храниться лишь
Меркантильная суета Невского проспекта не дает прохожим заметить строящуюся церковь св. Петра и Павла. В погоне за незнакомой красавицей офицер Пирогов проскакивает «темными Казанскими воротами» (III, 36) мимо храма, символизировавшего славу русского оружия в Отечественной войне 1812 г. Зато в Казанском соборе будет молиться «с выражением величайшей набожности» (III, 55) пропавший нос майора Ковалева[656]. У главного храма столицы Православия просят милостыню старухи-нищенки с провалившимися носами, немногочисленные «оглашенные» стоят «при входе» в почти пустой собор. Здесь Ковалев спорит со своим носом, затем, увидев дам, привычно охорашивается, желая привлечь внимание и, если повезет, завести интрижку. Испытание героя-пошляка не в силах изменить его натуру: для спасения он обратится не к Богу (что за него делает Нос, пусть даже лицемерно, пародийно), а к официальной власти – церковной, полицейской, «газетной», к мирским связям и докторам, потому что сам верит лишь в силу материального: порядка вещей, денег, чина, положения. Подобное оскудение «храма души» у современников автора делает невозможными для них единение, любовь и гармонию.
Храм как прообраз Царства Божьего, «ковчег», спасающий от страстей и соблазнов, воплощается в современном автору мире только «храмом искусства». Настоящее искусство, по словам художника-монаха во 2-й редакции «Портрета», религиозно, ибо оно – «намек о божественном, небесном рае», оно «выше всего, что ни есть на свете», оно «нисходит в мир… для успокоения и примирения всех» и потому «не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу» (III, 135), то есть от земли. Служение искусству фактически приравнивается к богослужению: художник «чище всех должен быть душою», избегая мирских соблазнов[657], а создавать свои произведения может только в особом «храмовом» пространстве монастыря или Рима. Поэтому «зала», где выставлено творение истинного художника, сопоставима с храмом: «Чистое, непорочное, прекрасное как невеста стояло… произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто как гений возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы <…> Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину – ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей… Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению» (III, 111112). И все это, несомненно, противопоставляется смешению «искусства/неискусства» в картинной лавке и в «зале» аукциона, где главным сразу становится страшный портрет с живыми глазами, воплощающий антихриста.
Для творчества Гоголя принципиально важны случаи, когда изображение храма – обязательное или подразумеваемое – в данном контексте отсутствует. Так, у старосветских помещиков, как выясняется, единственная церковь – кладбищенская (иначе Пульхерию Ивановну отпевали бы в домовой), однако нигде прежде не упомянуто, что старички посещали церковь вне усадьбы, хотя отмечены единичные выезды хозяйки на «ревизию». То есть, бездуховность и замкнутость их самодостаточного существования в какой-то мере была связана с неисполнением ими христианского долга. Ведь если у супругов не было детей, то истинным христианам следовало бы официально взять на воспитание ребенка и/или заняться благотворительностью. Вероятно, нарушение этих норм и провоцирует последующее явление наследника-«реформатора». Может быть, сознавая все это, Пульхерия Ивановна завещает похоронить себя на границе освященной земли, «возле церковной ограды» (II, 30). Для старичков храмом стали дом, усадьба, хозяйство, само же богослужение травестировано угощением, подменено культом еды – непрерывным гомерическим насыщением плоти
Представляя старичков жрецами семейного храма, Гоголь указал на источник сравнения – миф о Филемоне и Бавкиде в «Метаморфозах» Овидия (лат. Philemon, Baucis). Однажды Зевс и Гермес, принявшие обличье странников, чтобы испытать благочестие людей, обходили дома в одном из селений. Но никто им не дал приюта, а в каком-то доме даже хотели натравить собак. Лишь в убогом жилище под крышею из камыша их встретили достойно. Хозяева этой хижины прожили здесь от свадьбы до старости, но не нажили ни детей, ни достатка. Не стыдясь нищеты, Филемон и Бавкида, подобно рабам, омыли ноги гостей теплой водой, потом заняли беседой и поставили на стол лучшее, что было, даже хотели зарезать единственного гуся. Когда они с изумлением увидели, как пополняется сам собою кратер с вином, то поняли,
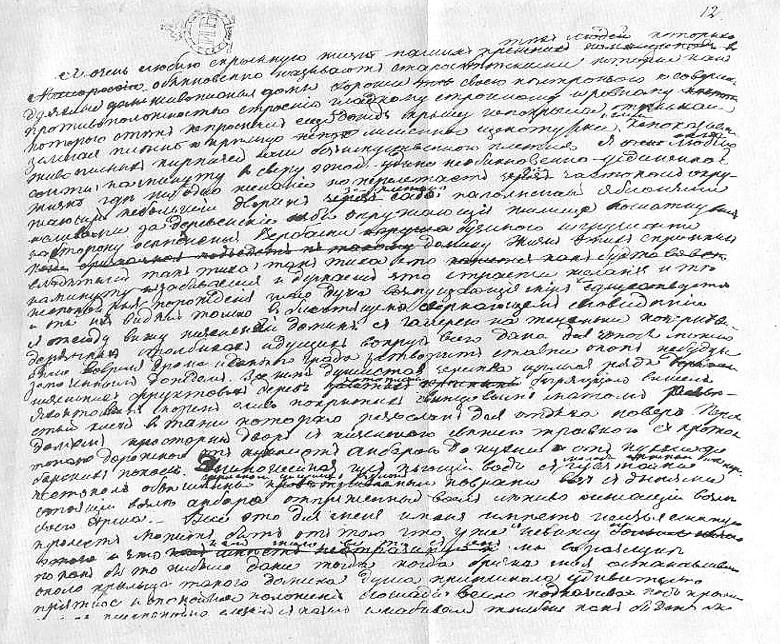
Рукопись повести «Старосветские помещики»
Миф о Филемоне и Бавкиде был освоен европейской литературой в период классицизма, когда была важна
Какие же мотивы истории Филемона и Бавкиды, начиная с «длинношейного гуся», были важны для Гоголя, что им прибавлено и что преобразовано? Современный исследователь замечает об этом: «Вообще параллель Филемон и Бавкида / Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна <…> представляется более глубокой, чем это может показаться на первый взгляд. При всем различии “Метаморфоз” Овидия и реалистического произведения XIX столетия имеет место целый ряд знаменательных перекличек, что свидетельствует о “памяти” идиллической традиции.
1. Радушие супругов обнаруживается при помощи взгляда извне: богов у Овидия и рассказчика у Гоголя, которые и в том и в другом произведении выступают в функции “гостей”.
2. Противопоставление мира старичков иному, “большому” миру, совпадающему у Гоголя с миром, в котором живет рассказчик, наблюдается и у Овидия, где противопоставлены “праведные” супруги и “безбожные соседи”.
3. Отсутствие детей у Товстогубов… не может быть показателем их семейно-идиллической “ущербности”: у овидиевских героев детей также нет.
4. И для Овидия, и для Гоголя время, в котором разворачивается действие произведений, как показывает экспозиция, – уже прошедшее»[661].