Книги
Записки русского крестьянина
Не знаю, был ли толк от этой нашей работы, но нам она доставляла большое удовольствие, и мы были несогласны со взрослыми, которые считали, что эта работа — ненужная выдумка начальства.
Потом, заметив, очевидно, что от такой борьбы с саранчой толку мало, начальство приказало распахать большак. Так на моих глазах исчез этот исторический природный памятник, с которым связано приятное воспоминание. Иная дорога заменила большак — шоссейная, связавшая город Воронеж с Москвой через Задонск и Елец.
По этому новому пути уже Петр Великий ездил из Москвы в Воронеж, где он строил свой флот для завоевания Азова*. В его царствование и начала покрываться камнем новая дорога с канавами по обеим сторонам. По этой дороге уже нельзя было гнать скот, а лошадей нужно было подковывать : камень — не земля, о камень конь быстро копыта сбивает и калечит ноги. Шоссейная дорога пролегла почти рядом с Доном, который она пересекала в городе Задонске.
Между большаком и шоссейной дорогой находилась еще одна достопримечательность, которая всегда приковывала мое внимание : курган*. Внизу у его подножия уже прикоснулся человек : распахал землю со всех сторон. Верхушка же оставалась покрытой вековечной травянистой корой. Она еще хранила остатки его былого величия и таинственности. Когда-то мимо него проходили и проезжали люди, склонив головы, в раздумье и может быть и с боязнью. Легенды о нем до сих пор живут. Об одной из них я всегда вспоминал, проходя мимо него. В кургане, думал я, на большой глубине, клад зарыт. Клад — большой, а достать его нельзя : заколдован он и простому смертному в руки не дается. Чтобы достать этот клад, нужно с чертом договор заключить и на нем своей кровью подписаться. Договор же говорит о том, что нужно черту душу отдать.
Говорят, что были смельчаки, которые хотели добраться до клада без помощи черта, да не вышло из этого ничего. До клада они не докопались, говорили, что он от них дальше вглубь уходил.
Я верил в эту легенду и в таинственную силу, охранявшую тайну кургана, и проходил всегда мимо него, объятый думой, навеянной им. Эти думы рассеивались новыми впечатлениями, захватывавшими меня при приближении к шоссейной дороге. По ней тянулись обозы, проезжали барские начальнические экипажи, иногда проходил дилижанс, ходивший из Воронежа в Задонск и обратно. Он также казался мне таинственным и необычайным явлением, с кучером, сидящим высоко-высоко на облучке. Внутри сидели пассажиры, господа. Дилижанс был похож на небольшой досчатый домик с окнами, но без трубы.
По сторонам шоссейной дороги шли в одиночку и группами богомольцы. Одни направлялись из Воронежа от Святителя Митрофания в Задонск к Святителю Тихону, другие шли в обратном направлении. Я знаю по примеру матери, что многие из них прошли большие расстояния, видели много сел, городов и разного народу. Хорошо бы было, думал я, и мне походить с ними по разным землям, но усталость от пройденных мною 14 верст быстро охлаждала мое желание. И я, налюбовавшись движущейся картиной, спешил добраться скорей до тетки Таньки. До нее оставалось 3 версты, из которых только полторы нужно было идти открытым полем, а потом дорога шла через лес, что было очень приятно. Сначала шло мелколесье, а за ним и густой, тенистый лес.
На одном из поворотов дороги встречалась прогалина, кончавшаяся глубоким обрывом. Оттуда открывался чарующий вид. Внизу, у самого подножья обрыва струился Дон в форме полуразогнутой дуги, а за Доном — панорама его двух берегов, одного — нагорного, другого — очень низкого с селами, лугами и полями. Вода Дона сверкала и искрилась под лучами солнца. Видение было так привлекательно, что я забывал на некоторое время и свою усталость и мысль о том, что скоро увижу тетку Ганьку.
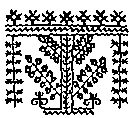
Вы знаете, из какой среды я вышел, в какой семье я родился. Я был одним из девяти первых мальчиков (девочек в первые годы не было), первых учеников школы, — целое событие села. Мы смогли научиться элементарным началам : читать и писать. Но этот уровень соответствовал скорее пословице : « Полуграмотный — не грамотный ».
Мы же, девять пионеров, вышли из этой школы не только полуграмотными, а просто безграмотными, потому что мы не были способны читать ни газеты, ни простых рассказов. Нам был доступен только язык сказок : он был близок тому, на котором мы говорили, на котором говорило все безграмотное население нашего села и все предыдущие поколения.
Не прошло и десяти лет после окончания школы, как все мои товарищи разучились читать и писать. Если иногда они и читали, то не понимали смысла прочитанного. С трудом могли они изобразить на бумаге свою подпись. Из нас девяти только двое могли читать « по-церковно-му ». Меня спасла любовь к чтению. Сказки, Жития* святых,
свою в борьбе против несправедливости, защищавшие слабых и обиженных. В великолепных садах жили жар-птицы, питались золотыми яблоками. В этих чудесных странах и Иванушки-дурачки становились царевичами и царями. Самые простые люди за свою честность, стойкость и верность правде достигали высших чинов.
Нас было двое товарищей, любителей чтения : я и мой ровесник, сын богатого мужика. У его отца была кирпичная, водяная мельница, просорушка* и много разного скота. Мой товарищ любил смешные рассказы и читал очень хорошо. Слушателями его были крестьяне, приезжавшие на мельницу его отца для обмолота ржи и проса. Многие из них предпочитали смешные рассказы сказкам ; поэтому они считали, что Тимошка (мой товарищ) читает лучше, чем я. Похвалы, которыми его награждали, меня не трогали. Я не был самолюбив.
Время от времени я мог купить небольшую книжицу за копейку-две, но не дороже трех копеек. Конечно, за такую цену я не мог покупать серьезных книжек, да я и не знал о существовании таковых. Во всяком случае, я не мог бы разобраться в том, какая книжка серьезная и какая не серьезная. Поэтому в руки мне попадались сказки или смешные рассказы. Но к последним я не имел склонности, они мне « не нравились ». Сказками же я увлекся, и они-то и приучили меня к чтению. Они помогли мне не забыть того, чему я научился в школе (что и случилось с моими товарищами), и больше того : у меня появилось желание идти вперед по пути приобщения к грамотности.
Городская жизнь меня не привлекала. Это объяснялось, вероятно, тем, что я ее не знал, и не приходилось мне видеть ее поближе. Я был в ней, как капля постного масла в воде. Она всегда остается нетронутой. Городские улицы, движущаяся толпа со всеми присущими ей особенностями, бедный люд : рабочие и мещане, кухарки, горничные, кучера и дворники не притягивали меня потому, что их жизнь мало отличалась от жизни деревни или же в ней было много такого, чего в моем селе не было и мне не нравилось.

Когда моя мать ездила в Воронеж, она познакомилась с монашками Новодевичьего монастыря и иногда ночевала у них.
Монашки рассказывали ей о своей жизни, читали ей Жития Святых и нравоучительные советы. Они даже одалживали ей книги, чтобы я мог читать их моим родителям.
Иногда и я ездил со своей матерью, и монашки дарили мне душеспасительные книги. Один раз они мне даже дали очень толстую книгу, в переплете, полное собрание
Что мне нравилось больше всего в монастыре — это то, что все было чисто, опрятно. Входишь туда и сейчас же чувствуешь себя непринужденно, далеко от обычной жизни, скудной, полной забот и неприятностей. Дорожки за оградой подметены как не подметают пол в крестьянской избе. Вдоль дорожек — кельи*, чистые и белые, точно их только что вымыли с мылом и вытерли полотенцем. Перед каждой из них — небольшой садик с разными цветами. На окнах — совсем чистые занавесочки, а на подоконниках горшки с цветами. Казалось, что ни одна пылинка не тревожила этот спокойный мир. Все здесь было чище, чем на городской улице. И повсюду царил покой. Шум города не проникал через эти стены. В ограде монастыря никто не производил шума, и было запрещено входить с лошадью. У монашек была мягкая обувь, и не слышно было их шагов. Посетители, большей частью крестьяне, носили лапти или ходили босиком летом ; зимой они носили лапти или валенки*.
Когда входишь в монашескую келью, чувствуешь себя в каком-то другом мире ; все чисто и светло ; перед иконами — всегда зажженная лампадка. Было впечатление, что все сияло другим светом, все сверкало другим блеском. Невольно я сравнивал келью с нашей избой, где была грязь, смрад, без всякой привлекательности ! Я был свидетелем жизни монашек ; они жили в тепле, в покое, в красивой комнате, с которой могла сравниться только комната феи в сказках. Они не должны были работать, но все время молиться Богу. А когда они шли в церковь, это было еще приятнее ; большая, богатая церковь, вся покрытая золотом и ярко освещенная. Зимой она отапливалась, а на полу был ковер. Для монашек было отведено специальное место, к которому они направлялись чинно, никто их не толкал. Эта церковь находилась очень близко от монастыря и ничем не походила на церковь нашего села, маленькую и бедную, в которой только иконостас* был позолочен (да и не весь, а лишь « царские врата »).