Книги
Записки русского крестьянина
Как в сказке, я, беглец из тюрьмы маленького города, затерянного в глухой степи, на далеком расстоянии от какого бы то ни было культурного центра, пересек обширные пространства и очутился... в Европе, в настоящей Европе !

Больше всего меня поразило, что все было непохоже на Россию. Впечатление от Европы было очень сильное, несмотря на физическую и душевную усталость, на потерю моих революционных надежд.
В Гельсингфорсе я нашел и М. П. Первееву. Она мне сообщила, что С. В. Панина снабдила ее необходимыми средствами для нашего путешествия и на жизнь первое время за границей. Средствами этими распоряжалась она, так как она более близко была связана с Паниной. Она же и переписывалась с Софьей Владимировной и вела денежные расчеты. Так случилось, что я стал пользоваться помощью С. В. Паниной, не прося ее об этом.
Шведская семья, давшая мне временный приют, состояла, если не ошибаюсь, из брата и сестры. Ко мне они были очень предупредительны и милы во все время моего пребывания у них. Они же позаботились о возможности нашего отъезда из Финляндии. Многих отправляли тогда на пароходах, уходивших из никогда не замерзающего порта Финляндии. Этот транспорт считался наименее опасным. Приютившие меня связались с капитаном парохода, на котором мы с М. П. Первеевой должны были уехать. Они задержали для нас места. Нам нужно было ждать назначенного времени отхода парохода ночью, чтобы приехать в порт прямо к его отплытию.
Капитан парохода был предупрежден заранее о нашем приезде. Он принял нас сейчас же и внес нас в список пассажиров без всяких формальностей, не требуя предъявить паспорта, на которых были указаны наши вымышленные имена. Со дня приезда в Гельсингфорс я был уже не Столяров, а Павлов. Под этой фамилией я проехал почти вдоль всего Балтийского моря до Копенгагена, откуда поездом я должен был доехать до Берлина, оттуда в Женеву, где и прожил около 10 месяцев. Только по приезде в Париж, т.е. по прошествии немного более года со дня выезда из России, я вновь стал носить свою настоящую фамилию.
На пароходе мы встретили пассажиров, которые показались нам похожими на наших соотечественников. Мы обрадовались этому несказанно и обратились к ним с просьбой помочь нам объясниться с прислугой парохода, которая не говорила по-русски, а мы не знали ни финского, ни шведского, ни немецкого. Но люди, которых мы приняли за русских, делали нам знаки, что они не понимают нас и быстро удалялись от нас. Так нам и не удалось узнать национальность людей, окружавших нас, и быть уверенными, что мы действительно попали на тот пароход, который должен увезти нас в далекие края.
Пароход вышел из гавани с большим запозданием, и много часов мы провели в неведении ; удалось ли нам бежать и покинуть гостеприимную Финляндию ?
Мы были убеждены, что наше пребывание за границей будет недолгим. Мы думали, что революционное пламя еще не погасло и скоро вспыхнет снова. И опять мы пойдем, не щадя ни своих сил, ни своей жизни на приступ того строя, который сковал и душу и тело нашего народа.
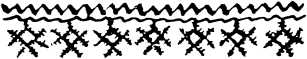
По воле провидения*, я, сын бедного крестьянина одного из беднейших сел самого бедного уезда Воронежской губернии, стал студентом Сорбонны, знаменитейшего Парижского Университета. Редко кому удавалось попасть в него. Разве это не чудо ? Прочитанное мною в детстве в сказках превратилось для меня в реальность. Но исполнение лелеянной мечты, однако, не радует мое сердце. Оно не вызывает во мне того восторга, которое я испытал при поступлении в среднее Земледельческое училище.
Отчего у меня такое безразличие ? Не поколеблено ли мое моральное состояние от перенесенных испытаний, и я пал духом ? Исчезла ли жажда знаний ? А может быть причиной тому физическое состояние, так как я чувствовал себя чрезвычайно истощенным ? Возникло также разочарование, вызванное близким знакомством с революционной элитой, боязнь перед предстоящими трудностями : как сочетать учение и материальные заботы жизни. Много сомнений охватывало меня постоянно. Я их испытывал с тех пор, когда, по воле судьбы, был вырван из тюрьмы благодаря крестьянам, а потом совершил громадное путешествие : Москва, Гельсингфорс, Копенгаген, Берлин, Женева и, наконец, Париж, фееричное путешествие для молодого человека, сына крестьянина, не освоившего еще как следует своего родного литературного языка. Да, это была сказка ! Но смогу ли я удержаться на той высоте, на которую вознесла меня судьба при моем физическом и моральном состоянии ?
Эти сомнения не только уменьшали, но даже, моментами, заглушали ту радость, которую она должна была бы вызвать в моем положении. Вот почему без всякого волнения получил я уведомление ректора Парижского Университета о предоставлении мне эквивалента на степень бакалавра и зачислении меня в студенты на Факультет Естественных наук Сорбонны.
Мои парижские друзья забеспокоились о моем физическом состоянии и решили повести меня к врачам. Первый из них сказал, что у меня туберкулез ; второй — объявил, что мне следует носить корсет ; третий сказал мне : « Уезжайте из Парижа, этот город вам не подходит. Поезжайте в какой-нибудь провинциальный город, например, в Тулузу. » Я последовал его совету и поехал записываться на Факультет Естественных наук Тулузы. Там состояние моего здоровья изменилось совершенно. Там я получил высшее образование, диплом инженера-агронома и в то же время выдержал экзамены по ихтиологии, зоологии и ботаники, но не выдержал одного экзамена на Факультете : « за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь »; я был совершенно изнурен.
Я смог поехать в Россию только через десять лет, в 1916 году и повидаться со своей семьей. Мой отец умер вскоре после этого, по-видимому от воспаления легких.
Моя мать осталась совсем одна. « Мать ! Бедная, неутомимая труженица, страдалица за всех обездоленных, ты всегда думала о том, чтобы помочь другим, облегчить жизнь своим. Ты сочувствовала чужому горю, но никогда не думала о лучшей доли для себя самой.
Твой старший сын, со всей своей семьей уехал на дальний край своей родины, оставив тебя одну в последние дни твоей жизни, одну ’ как полынь в степи. ’
Младший, ’ ученый ’ , твой любимчик, улетел из родного гнезда далеко от тебя и не был при тебе, чтобы помочь тебе в трудные моменты твоей жизни.
Ничто не сломило тебя : ни твоя горькая доля, ни крайняя нужда, ни произвол правопорядка, ни бесправие. Одиночество, холод, тревога за твоих сыновей, — вот что истощило тебя. В старости, во время ужасных беспорядков, которые сотрясали родину, никто не принес человеческой теплоты твоему изнуренному сердцу. На холодной печи ты нашла последнее убежище, последний покой... »

Крестьянские дети привыкли с раннего детства видеть близко смерть. На их глазах умирали их братья и сестры, дедушки и бабушки, иногда и их родители. Часто они были свидетелями последних минут жизни своих соседей. Они считали своим долгом пойти посмотреть на покойника, лежащего на скамье под иконами до положения во гроб или сейчас же после этого посмотреть на него в гробу, если даже усопший был далеко от их избы.
От дома до церкви несут покойника в открытом гробу и все прохожие видят его. Дети выбегают из избы и бегут за процессией, чтобы взглянуть на покойника.
Я же, в качестве чтеца, был много раз совсем близко от покойника. Между 12 и 16 годами я участвовал в похоронах по крайней мере 100 раз и видел лицо покойника, на которое смерть наложила свой отпечаток. Даже когда мне еще не было 12-ти лет, я видел много покойников.