Книги
Палаццо Волкофф. Мемуары художника
Вагнер неожиданно встал и, обращаясь ко всем, сказал доверительно: «Что мы будем играть?».

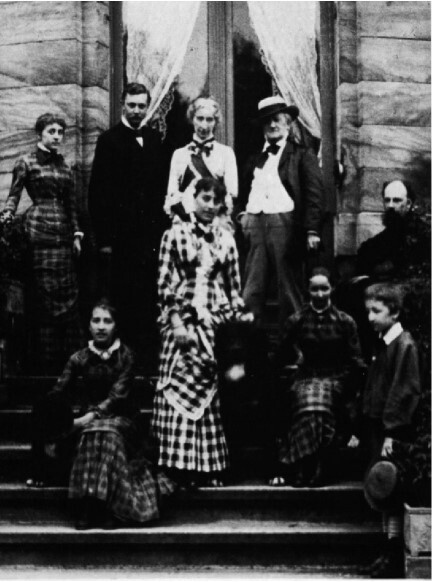
Все замолчали в надежде услышать какую-нибудь любимую пьесу маэстро, сыгранную Рубинштейном[70] и продирижированную им самим. Слово «мы», казалось, давало повод для этой надежды, когда, к нашему великому удивлению и разочарованию, Вагнер взял с полок небольшую сонату Моцарта и положил ее на фортепиано. Рубинштейн начал играть, а Вагнер бесшумно прохаживался по комнате. Я сидел рядом с Рубинштейном. Соната была одной из самых легких и простых; любому музыканту достаточно было просто бросить взгляд на каждую страницу, чтобы больше к ней не возвращаться. Рубинштейн следил глазами за маэстро. Он шел вверх и вниз, даже не глядя в ноты, но неуловимыми движениями, иногда рукой, а иногда одним пальцем, он дирижировал и производил самые удивительные эффекты. Это было изумительно, и как многому это нас научило! Мы все обратились в слух, а что касается меня, я еще и глядел во все глаза, потому что, несмотря на мое восхищение тем, как он играл эту пьесу, я видел, что Рубинштейн играет ее не так, как она была написана, и что эффекты, которые Вагнер заставлял его производить, совсем не соответствовали тому, что я читал в нотах.
Позже я позволил себе указать на это маэстро.
«Вы действительно думаете, что Моцарт сочинил ноты так, как они напечатаны? — сказал он. — В каждом издании люди позволяли себе изменять их по своему вкусу, а самого Моцарта нет».
Люди говорили, что у Вагнера был тяжелый характер, и даже тех, без кого он не мог обойтись, не миновали его неприятные, а иногда и чудовищные слова. Ходили слухи, что Иосиф Рубинштейн — самый милый и самый скромный человек, которого когда-либо производила природа, и без которого Байройт, вероятно, не существовал бы в том виде, в каком он есть в настоящее время, — всегда аккомпанировавший репетиции Вагнера на фортепиано, не имея больше возможности выдерживать капризы маэстро, покинул его однажды, и как будто навсегда. Однако через три года он вернулся, заявив, что больше не может жить без него. Руководитель балета в Дессау, Фрике, с которым я познакомился в Байройте, человек, совершенно незаменимый как импрессарио, признался мне, что он действительно не мог смиряться с этим: так неприятны были его отношения с Вагнером, что каждый вечер он изливал на бумагу всё, что пережил в течение дня. По его словам, он готовил книгу, которая должна была быть опубликована после смерти Вагнера; но когда я увидел Фрике после смерти маэстро и спросил его, где находится его книга и когда она будет опубликована, он ответил: «Никогда, потому что теперь мы понимаем, что он был душой всех нас».
Лично у меня не было неприятных моментов от общения с Вагнером. Надо признать, что он знал, как сильно я восхищался им. Не я ли однажды сказал ему, сидя рядом с ним за ужином у княгини Хатцфельдт, как поражен тем, что сижу рядом с человеком, которому я был обязан такими огромными радостями, тогда как он мне ничем не обязан. «К сожалению, — ответил он, — утех, кто это понимает, нет денег».
Но это восхищение не помешало мне в один прекрасный день высказать мнение, которое могло вызвать у него неудовольствие. Не знаю, какой дьявол побудил меня однажды вечером, когда я был с ним наедине, сказать ему, что несколько частей «Свадебного марта» из «Лоэнгрина» показались мне довольно банальными. Когда я думаю об этом сегодня, не могу себе представить, как у
Без малейшего раздражения, он совершенно любезным тоном спросил
«Я слушал ее повсюду, — сказал я, — в Дрездене, Петербурге, Лейпциге, Берлине».
«Да, — сказал он, — и везде они играют ее плохо, я сыграю ее для Вас».
Он подошел к фортепиано и сыграл эту часть, и хотя его руки были далеки от рук пианиста, он заставил меня услышать ее в совершенно другом темпе, отличном от того, к которому я привык. Мои замечания не только не рассердили его, но даже позабавили, и он продолжал играть и петь[71].
Палаццо Бембо: Ференц Лист
Итальянское общество мало понимало огромную репутацию, которой пользовались такие люди, как Лист и Вагнер в Германии и Австрии, и поэтому можно часто было видеть странные сценки. Так, например, на одном из приемов, устроенных княгиней Меттерних в честь Листа, в то время как она и я рассматривали и обсуждали семейный портрет, написанный Кирхмайром[72], в соседней комнате, молодая дама, хорошо известная в венецианском обществе, вошла в комнату и, подойдя прямо к Листу, сказал ему: «Сударь, они попросили меня спеть что-нибудь. Вы сможете аккомпанировать мне?»
Дерзость, с которой она попросила об этом, давала представление о мере ее неведения относительно исключительного положения этого музыканта в мире, и о невозможности предлагать ему такое.
Мы с княгиней Меттерних только обменялись улыбками, но Лист, даже не поворачиваясь к этой женщине, сухо сказал: «Нет, мадам».
Через две-три минуты Лист вернулся в переполненную гостиную и довольно громко заявил: «Гогенлоэ, идите сюда и спойте „Два гренадера“ Шумана. Я буду аккомпанировать Вам»[73].
Образ жизни в Италии отличался от многих других стран того времени. Вот один пример, удививший иностранцев. Не знаю, было ли это по инициативе Вагнера или какого-нибудь венецианского музыканта сыграть под управлением Вагнера симфонию, написанную Листом в его юности. В Германии и в России все знали, что в качестве дирижера ему не было равных в Европе, и не существовало консерватории, которая не была бы рада возможности увидеть его в качестве дирижера. Вагнер, безусловно, сделал это, чтобы доставить удовольствие музыкантам Венеции. Но каково было его изумление, когда через несколько дней после спектакля он получил счет на две тысячи франков. Он его, конечно, оплатил.