Книги
Палаццо Волкофф. Мемуары художника
Когда она обсуждала какую-либо тему с мужчинами, чьи идеи были неразумны или запутанны, она отвечала им с неоспоримой логикой — так, что те предпочитали изменить тему разговора.
Однажды вечером у княгини Хатцфельдт, когда там присутствовал граф Гобинб[60], чьими произведениями Вагнер безмерно восхищался, этот писатель вступил в конфликт с мадам Актон по вопросу о ясновидении. Он рассказал историю о случае, когда, гуляя по парижским бульварам, ему внезапно привиделось, что башня, которую он видел где-то в Индии или Китае, рушится. Несколько часов спустя, первым, что он увидел в газете в кафе, была публикация этого факта.
«Но тогда, — сказала мадам Актон, — ясновидение применимо к новостям, напечатанным в газете, а не к падению башни, давно уже бывшей в руинах, когда Вам это привиделось».
Это замечание весьма не понравилось видному писателю. Известный австриец, директор какого-то научного колледжа, который всю свою жизнь занимался археологией, однажды объяснял княгине Хатцфельдт, почему в искусстве произошел такой упадок и почему искусство ныне истощается. Он заявил, что это происходит потому, что, сказав всё, искусство может либо повторяться, либо скатываться вниз. «Взгляните на скульптуру греков или картины голландцев и итальянцев. Что может быть более красивым? Взгляните на Аполлона или, хотя бы, на одну из Мадонн Беллини».
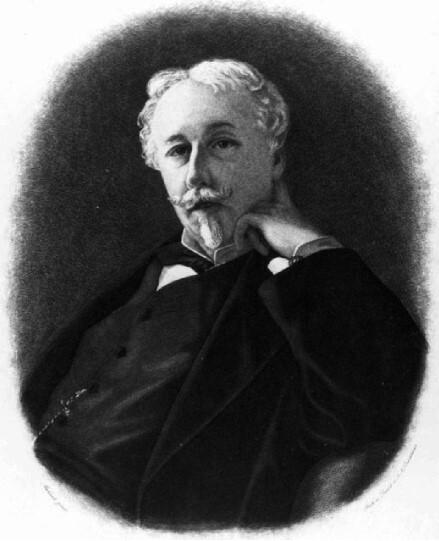
«Однако два Аполлона, — возразила мадам Актон, — явились бы прогрессом в искусстве; и если бы многие люди писали, как Беллини, это также стало бы шагом вперед». Ее мнения были ясными и точными.
«Не забудьте, — писала она мне из Парижа, — сходить и посмотреть в Люксембурге картины русской мадемуазель Башкирцевой[61], ученицы Бастьена Лепажа[62]. Она умерла в возрасте двадцати пяти лет, и о ней много говорили; она была своего рода рано созревшим гением. После ее смерти ее дневник был опубликован, и у меня сложилось впечатление, что она была амбициозной и одаренной девушкой, но всё же не похожей на
Уроки для мадам Актон
Однажды, когда у княгини Хатцфельдт было много гостей, в том числе несколько известных художников, таких как Пассини, Дзеццос, Рубенс и Путеани[63], мы заговорили о способностях, которыми должны обладать мастера, и о том, как редко эти способности были им присущи. Я заметил, что любой человек с точным глазом, может вскоре научиться хорошо рисовать, и что любой человек, обладающий зрительной памятью на цвета, может скоро научиться живописи.
«А рука, — заметил Пассини, — разве она не играет большую роль?»
«Нет, — сказал я, — она не играет никакой роли, кроме как при выборе типа картины, и зачастую „умная“ рука вовлекает художника в столь изощренный стиль, от которого потом трудно избавиться!»
«Ну, — сказал Пассини, — я уверен, что с такой рукой, как, например, у мадам Актон, никто никогда не научился бы рисовать».
Мы все засмеялись, потому что все знали ее руки — красивые, но настолько неловкие, что она не могла заниматься рукоделием.
«Любезные дамы, — обратился я, — я совершенно не разделяю мнение г-на Пассини, и прошу вас приходить ко мне на два часа в день: мы попробуем с вами поэкспериментировать».
Четыре дамы, среди которых была также и мадам Актон, приняли мое приглашение, и на следующий день они пришли ко мне. Чтобы увидеть, каковы их зрительные способности, я попросил их одним взмахом кисти разделить линию длиной в дюжину сантиметров на две равные части.
Двое из них сделали это довольно хорошо, но остальные показали такое отсутствие точности зрения, что мне пришлось отослать их обратно. Мадам Актон была одной из двух, чей взгляд оказался точным.

На следующий день я предложил им нарисовать как можно более прямые линии и разделить их на две равные части. Правда, линии, проведенные мадам Актон, не были прямыми, но общий результат показал, что она действительно имела точное зрение.
На втором уроке я попросил их измерить линии по десять сантиметров, а затем разделить их на три равные части. Вся их домашняя работа состояла из такого рода задач, но каждый день они должны были удлинять линии, которые должны были быть разделены. Третий и четвертый уроки состояли в копировании углов, и я пытался объяснить им, что при рисовании с натуры зданий и интерьеров точность углов служит заменой знания перспективы. Пятый, шестой и седьмой уроки были тоже заняты этими двумя углами, также с кривыми и кругами и их превращением в эллипсы. На восьмом уроке я объяснил, что такое тени и что их цвет варьируется в зависимости от оттенка того места, откуда они были «освещены», и показал им разные цвета, используемые в акварели, а также различные комбинации, которые можно создать из них.
На девятом уроке я предложил им пойти со мной, чтобы заняться живописью в церкви. Здесь разница в способностях двух моих учениц оказалась четко обозначена. Мадам Актон видела цвет; другая дама не видела его или видела его плохо. Мы рисовали в течение недели, иногда в церквях, а иногда в гондолах. Картины мадам Актон, без сомнения, показывали неуклюжую руку, но также отличались более важными качествами, чем просто технические способности. В них была такая искренность, которую не знает художник, мыслящий только о показном эффекте своей работы, но при этом мадам Актон никогда не думала ни о чем, кроме истинности воспроизводимого оттенка. Ее оттенки были настолько точны, что заставляли забывать о технике ее рисунка, довольно зигзагообразного. Изображения интерьеров вышли замечательными, и я заставил ее взять свою последнюю работу, чтобы показать Пассини.