Книги
Кыш и я в Крыму
– Дорогой мой!.. Мы повздорили. Это естественно… Ведь я прав, но мы, извините, не гимназистки – разлучаться навек из-за пустяков. Согласитесь, что за всё вытворенное вами я не мог погладить вас по голове.
– Дело не в этом, – сказал Федя.
– Так вот, знаете, почему я не говорю вам: скатертью дорожка?.. Вы мне нравитесь. Да-с! Я уважаю вас. И верю, что с завтрашнего дня начнёте новую жизнь в «Кипарисе».
– В общем, вы правы! – сказал Федя.
– Ну вот и хорошо, – обрадовался Корней Викентич. – Вы думаете, я не понял мотивов собаки, когда она стянула уточку? Понял! И зря вы кипятитесь!
– Корней Викентич, – сказала, подойдя к нему, наша хозяйка, – о вашем тиранстве отдыхающие уже сложили легенды!
– И правильно. Они приехали сюда восстанавливать здоровье, а не развлекаться! Вот возьмите Сероглазова! На правильном пути человек! И вдохновенно бежит по нему! Скоро на него будет приятно смотреть!
Папа в этот момент развернул свёрток, достал из него свой пропавший с верёвки свитер и строго, как на допросе, спросил у меня и мамы:
– Каким образом этот свитер оказался у меня под подушкой?
Мы с мамой только переглянулись и ничего не могли ответить.
– Сейчас вы всё узнаете! – сказала Анфиса Николаевна. – Стойте здесь. Близко ко мне не подходите! Он в сарае! – Она на цыпочках подошла к двери сарая.
С этой минуты всё стало происходить, как в кино.
66
Анфиса Николаевна, негромко постучав в дверь и отодвинув засов, сказала:
– Выходи… Не прячься… Я же знаю, что ты здесь… Не бойся… Тут никого нет… Фашисты далеко… Патруль только что проехал… Выходи. Я помогу тебе…
Она отступила шага на два от двери. В сарае кто-то зашевелился, скрипнули доски, и громыхнуло ведро. Мама прижала меня к себе… И вот наконец старая дверь тихонько отворилась, и в ней показался… Василий Васильевич! Он, не глядя на нас, сказал Анфисе Николаевне, совсем как мальчишка:
– Тётенька… вы меня не ругайте… вы меня простите… Я же не воришка… Я очень есть хотел…
Анфиса Николаевна подошла и, никого не стесняясь, заплакала. А Василий Васильевич обнял её одной рукой, а другой смахивал с глаз слёзы. Он всё время кусал губы, наверно, чтобы не разреветься, и говорил:
– Сестрёнка… милая ты моя… сестрёнка… родная…
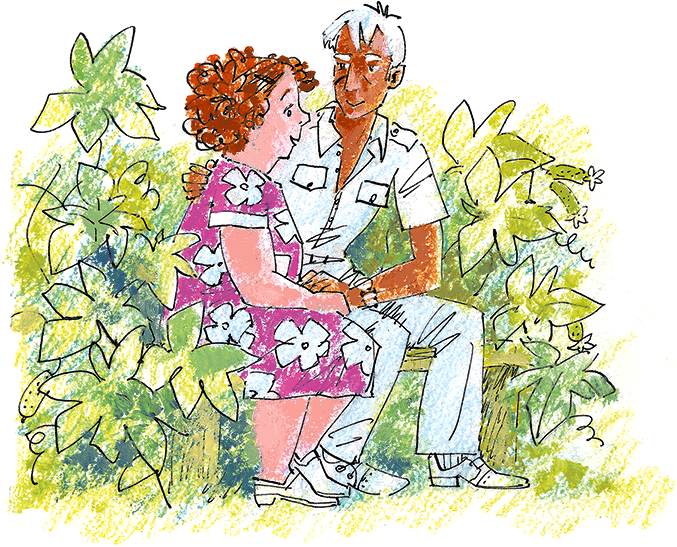
А Анфиса Николаевна счастливым голосом повторяла: