Книги
Записки русского крестьянина
Оказалось, что этот военный был сын бедной вдовы нашего села. Он отбывал воинскую повинность в Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку*. Теперь он возвратился окончательно домой в чине младшего унтер-офицера. Он неплохо рассчитал, появившись в церкви в своем парадном одеянии : форма покорила всех и открыла ему все двери.
Несмотря на его бедность, самый богатый мужик выдал за него свою дочь, а местное начальство выхлопотало ему место целовальника* в кабаке села.
Не остался в долгу перед ним и дьячок : он пригласил гвардейца в церковный хор.
Таким образом, мы, хористы, и познакомились с ним. Кабак этот находился недалеко от школы, где происходили наши спевки, и мы, солисты, перел спевкой начали заходить к нему. Мы приходили в кабак всегда значительно раньше начала спевки : нас привлекали рассказы целовальника о его службе в Петербурге, о том, что он там видел и слышал. Но видел он мало, а слышал больше всего то, что говорилось в казарме. О городе он мог нам сообщить только, какие в нем большие дома, какие церкви и какая большая река Нева... « На другой стороне Невы-реки, - рассказывал он, построена крепость, которую ни один враг не может взять. В этой крепости — каменные мешки, где сидят люди, которые взбунтовались против царя. »*.
В полку его обучили, как и других его товарищей, грамоте. За пять лет своего пребывания в Петербурге, кроме своей казармы, он не знал ничего ни о городе, ни о его значении, ни о размерах своей родины. Ему не объяснили даже того, что такое « Отечество » и какие его обязанности перед ним. Его рассказы ограничивались описанием маневров, парадов его полка. С напряженным вниманием и почти с благоговением мы слушали его, когда он рассказывал о том, при каких обстоятельствах он видел самого Царя, его наружность, манеру держаться, и что сам он испытывал в эти минуты.
Однажды целовальник поднес каждому из нас по рюмочке водки. Потом, время от времени, нас стали угощать и некоторые посетители. Так, мало-по малу, мы « вошли во вкус », начали выпивать по рюмочке перед спевкой на свои деньги, а как достать деньги для этого ? Мы решили в первое же Рождество идти по дворам « славить Христа »*.
Нас было трое : два брата Хомка (= Фомка) и Алексашка Кауш-кины, первый и второй дисканты, солисты и я, солист-альт. Раньше по дворам ходили и славили Христа только священник и дьячок. Для них славление Христа на Рождество было одной из важных доходных статей их бюджета.
Мы решили ходить только по богатым дворам. Входя в избу, мы пели кондак* и ирмос* праздника Рождества Христова и поздравляли хозяев с праздником. В благодарность нам давали две, три, пять копеек, а иногда и десять.
Бедные дворы нами были исключены из-за боязни, что они не смогут нас отблагодарить. Но мы ошиблись. Бедные обиделись, и мы убедились, что бедные часто были более щедрые, чем богатые, когда мы стали заходить по очереди во все дворы. Успех был для нас неожиданный. Сначала священник и дьячок заволновались, видя в нас конкурентов. Потом они успокоились и на Пасху они сами предложили нам ходить вместе с ними служить по дворам молебны.
На Пасху священник и дьячок ходили по прихожанам с иконами. Сейчас же после обедни добровольцы « богоносцы »* выносили иконы из церкви и несли их в первую же избу, стоявшую на дороге. Так начинался обход. После молебна священник, дьячок и мы, хористы, христосовались* с хозяевами, говоря : « Христос воскресе ! » Все члены семьи давали священнику и дьячку по красному яичку, кроме того — некоторое количество зерна или муки, целый хлеб и несколько свежих сырых яиц. В некоторых дворах давали еще и кур. Нам, певчим, « плата » была необязательна, но редко мы уходили из избы, не получив ничего. Обычно нам давали яйца и несколько копеек.
В первый день Пасхи ходили, обычно, по самым богатым дворам. Со второго дня Пасхи ходили по всем дворам подряд. В богатых домах нас к тому же и угощали, угощение сопровождалось водкой. Священник нашего села не пил, дьячок же и мы, певчие, не отказывались. Угощали нас во многих избах, и к концу дня мы порядком пьянели.
Эти частые выпивки приучили мой организм к спиртному. На одной из свадебных пирушек меня напоили до такой степени, что я вернулся домой совсем пьяный, и моя мать нашла меня на полу в беспамятстве. Мой отец прибежал на ее крики. При виде моих посиневших губ, бледного как полотно лица и безжизненных рук, мои родители решили, что я умер. Мать стала голосить*. Прибежали соседи и, приблизившись ко мне, почувствовали запах спиртного. Тут-то и догадались послушать сердце, которое слабо билось. Дыхания же почти совсем не было заметно. Вспомнили тогда, что пьяных отпаивают парным молоком. Мать моя побежала к соседке, упрашивая ее подоить сейчас же свою корову (у нас уже не было больше коровы). С большим трудом старались влить молоко мне в рот, но зубы были так сильно стиснуты, что разжать их не удавалось. К тому же я был без сознания и ничего не мог проглотить. Наконец, разжали зубы и влили немного молока. Молоко вызвало рвоту. Я очнулся, открыл глаза и заплакал. Всю ночь родители мои отпаивали меня парным молоком.
Смертельная опасность, грозившая мне в эту ночь, не произвела на меня сильного впечатления. Страх и тревога улеглись. Когда мои родители рассказывали мне о случившемся, мать обвиняла особенно « тех дураков », которые напоили меня « чересчур » водкой. Я искренне поверил, что взрослые люди были более виноваты, чем водка.
Не знаю, чем бы кончилось это мое раннее пристрастие к водке, если бы не произошло еще одно событие, излечившее меня от него навсегда.
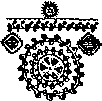
Это случилось в августе на наш престольный праздник. Мне только что исполнилось 14 лет. По случаю праздника за обедом у нас были гости ; как полагается в таких случаях подносили и водку. Отец и мне предложил « выпить », но я отказался. После обеда отец и мать ушли на базар торговать булками и кренделями, чтобы заменить моего старшего брата. Гости тоже ушли. Я остался дома один, ожидая прихода брата с базара. В ожидании его я стал убирать со стола. В этот момент я не удержался от соблазна и « потянул » несколько глотков прямо из горлышка четвертной* бутылки. Вероятно я перехватил, но действие алкоголя не проявилось сразу, и мой брат, вернувшись домой, не заметил ничего ненормального в моем поведении. Я вышел из дому с жестяной дудочкой (недавний подарок), что-то вроде примитивного музыкального инструмента. Она производила только одну ноту, но для крестьянского мальчика и такая дудочка казалась хорошим музыкальным инструментом. С ней я и направился на базар. По дороге я остановился около хоровода молодых девушек, плясавших под звуки настоящего дудочника. Обычно застенчивый, я вдруг расхрабрился и присоединился к дудочнику с моей несчастной дудочкой. Это понравилось всем. Но скоро занятие это мне надоело, и я ушел из хоровода. Помню смутно, что после этого я поссорился со своими товарищами и оставил их тоже. С этого момента все спуталось в памяти моей. Куда я направился ? По какой дороге пошел ? Не помню ничего. На один миг я пришел в сознание около недостроенной кирпичной избы в саду. Мимо лее мы, школьники, проходили всегда осенью и ранней весной, так как улица в это время года превращалась в лужу липкой грязи и такой глубокой, что ноги наши увязали, и мы рисковали потерять сапоги или прийти в школу в совершенно мокрых облипших лаптях. Поэтому нам, школьникам, позволялось проходить по чужим садам, где земля была тверже, грязи меньше, благодаря траве. Проходя всегда мимо этой недостроенной избы, мы были убеждены, что в ней жил « домовой ». Поэтому ночью мы старались избегать ее и не входить в нее. Очевидно, после ссоры со своими товарищами, я и пошел по этому пути и заснул около этой избы. Проснулся я перед вечером и в полу-сознательном состоянии вошел внутрь избы и снова заснул. Во второй раз я проснулся, когда уже наступила ночь, вероятно, перед самой грозой, разразившейся этой ночью. Мое внимание привлек огонек, видневшийся вдали, я и пошел, выйдя из избы, на него. Огонек привел меня к жилой избе, которую я был неспособен узнать. Дверь в сени не была заперта на задвижку, и ощупью, в темноте я начал искать дверь в избу и не находил ее. « Кто там ? » закричал кто-то. Я не отвечал и продолжал шуршать, царапаться о стены. Я не говорил ни слова, несмотря на повторные вопросы. Я чувствовал, что мое молчание и шум, производимый мной, пугали людей, но я был не в состоянии отвечать. Я слышал голоса, которые предлагали отворить дверь, другие — не соглашались. Наконец, первые взяли верх : дверь отворилась, и я вошел в избу. Не говоря ни слова, я подошел к лавке, повалился на нее и сейчас же заснул. В избе меня узнали, поняли, что со мной : « Пусть проспится ! » К сожалению, они не догадались пойти сообщить моим родителям, что я у них. На утро я проснулся поздно, выслушал от приютивших меня невольно хозяев рассказ о том, как сначала они приняли меня за привидение. Дома я застал в избе одну мать. Увидя меня, она вскрикнула и долго не могла прийти в себя, потом заплакала. Я почувствовал, что в доме случилось какое-то большое несчастье : так изменилась мать в лице. В чертах ее отражалось глубокое страдание, а глаза выражали скорбь. Но я еще не догадывался, что причиной этой перемены был я. Немного успокоившись, мать спросила меня : « Где же ты, Ванюша, был ? Где ты провел ночь ? » От испуга, овладевшего мною при виде матери в таком состоянии, у меня не нашлось храбрости сказать всю правду, и я ответил, что ночевал у Алексашки, одного из трех солистов хора, что и случалось иногда. Я подумал, что мать недовольна, что я не ночевал дома или провел ночь среди людей, общество которых она не одобряла. Дружбу же с Алексашкой, наоборот, она поощряла. На мой неправдивый ответ мать тихим голосом сказала : « Нет, Ваня, это — неправда ! Твой брат ходил к ним ночью за тобой, но тебя там не было, ты мне, Ваня, солгал ! » При ее словах меня бросало то в жар, то в дрожь, и слезы невольно от волнения потекли по моим щекам. Я был потрясен не тем, что я уличен во лжи, а от мысли, что я солгал и кому ? Матери ! Со слезами я рассказал ей всю правду и просил прощения за причиненные ей и всей семье страдания.
Это чувство и сознание виновности было так остро и глубоко, что осталось во мне на всю жизнь.
Я его переживал потом всякий раз, когда мать при случае напоминала мне об этой злосчастной ночи.
Успокоившись окончательно, мать рассказала о том, что произошло после моего исчезновения. Брат мой, Илюшка, проходя мимо хоровода, видел меня и догадался, что я пьян, и сказал матери об этом. Она же не приняла этого всерьез и, считая, что семья наша была скорее застенчивая, сказала : « Пусть парнишка позабавится разок ! » В это время черные густые тучи покрыли все небо, грянул гром, и начался сильный ливень. Тут и спохватились, что меня давно нет, стали беспокоиться. Ливни в нашей местности бывают необычайные : в несколько минут вода покрывает все, заполняет все овраги. Вода превращается в бурные потоки, текущие с большой быстротой в реку. Люди видели, что я спускался в овраг, там, возможно, заснул : вода меня захватила, я утонул, а поток унес в реку. После дождя люди с фонарями обшарили все склоны оврагов. Хотели просить бить в набат, чтобы собрать больше народу, но люди убедили моих родителей отложить поиски до восхода солнца. Когда я вернулся жив и невредим, меня не наказали, и я даже не получил никакого упрека. Но все это произвело на меня сильное впечатление. Я почувствовал всем своим существом, куда может привести « веселие пити »*, какой опасности я подвергался и какие страдания причинила бы моя гибель. И из-за чего ? Из-за этого чертовского зелья !*... В один миг я осознал серьезность происшедшего и решил про себя никогда больше не пить. Я не давал моей матери зарока не пить и никому не сообщил о моем намерении. В глубине же своей души я дал себе торжественное обещание. Я просто сказал сам себе : « не надо больше пить », и сдержал свое слово.
В течение более двадцати лет я не выпил ни капли водки. Это было трудно, так как мои товарищи смеялись надо мной за мой отказ присоединиться к ним, когда представлялся случай. Женщины ехидно и иногда жестоко поднимали на смех мою трезвость, а мужчины называли « бабой ». Но ничто не могло поколебать моего решения. Я оставался неуязвимым и равнодушным к насмешкам и даже побоям.
Ноябрь для крестьян — самая скучная пора. Непрерывные дожди вперемежку со снегом, серое, хмурое небо, грязь непролазная, дороги непроезжие — все это привязывало нас ко двору. Скот давно уже толчется все время на месте, ходит хмурый, тоскуя по вольному воздуху, по зеленым выгонам, по свежей траве, которую он мог щипать на свободе. Куры прячутся в теплые, сухие уголки. Даже воробьи и те забираются в кучи дров, хвороста, устраиваются под крыши или между ветвями, откуда посылают свое печальное чириканье. Они уже давно потеряли свой задор, позабыли свою драчливость.