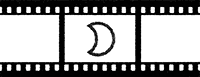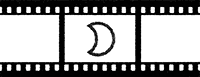ЯВИТЕСЬ!
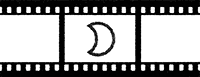
Явитесь. Явитесь из летней жары и роя мошкары. Явитесь из той атаки на все чувства, подвергающей усиленному обстрелу палочки и колбочки, барабанные перепонка и волосковые клетки. Явитесь из лучей великого солнечного прожектора, который скользит по белым пескам, превращая каждого — и, следовательно, никого — в звезду.
Ступите внутрь и повстречайтесь с Прологом.
Там, где вы оказались, темно. Вокруг царят доброжелательные тьма и прохлада. Что бы ни случилось, Пролог приветствует вас радушно, принимает безоговорочно, ведёт себя любезно, предоставляя всё необходимое для того, чтобы вы сумели справиться с тем, что будет дальше. Пролог терпелив. Ему частенько говорили, что в нём нет совершенно никакой необходимости, он всего лишь нарост на истории, который мудрый доктор должен срезать. Время от времени Прологу случалось обнаружить, что двери в более фешенебельные заведения для него закрыты — те заведения, где горят свечи и блистает хрусталь на устланных белым столах, подготовленных для элегантно одетых In medias res[4] — совершённого в полночь изысканного убийства или справного музыкального номера. Пролог не переживает из-за этого. Он был в моде, когда пьесы ещё начинались с жертвоприношений; если застать его в нетрезвом виде, Пролог расскажет, что любое представление, в котором действие возникает спонтанно, без пары тёлок, горящих посреди авансцены, по-прежнему кажется ему весьма безвкусной затеей. Пролог — прародитель историй и владыка публики. Он знает, что зрителей надо вовлекать в происходящее неторопливо, обучая их тому, как себя вести. Требуется всего лишь немного музыки; спокойная игра световых пятен; проблеск обнажённой кожи; хороший, крепкий монолог, чтобы ввести всех в курс событий, а иначе известие о том, кто станет королём Шотландии, будет им так же нужно, как ведьме третья титька.
В прологе вы снимаете пальто. Расслабляетесь. Оставляете туфли у порога. Призываете музу, раскладываете флеш-рояль богов, коих хотите привлечь к делу. О муза, о богиня. Пой, говори, плачь. Излей на меня песнь гневную. Сдай мне оружие и беглеца. Схвати горн и изобрази мне голос многомудрого путешественника, который не смог вернуться домой. Прибереги кресло в первом ряду для демиурга в маске, тёплое местечко для неугомонного старого Мира-в-Пустоте, или пеняй на себя.
Итак, входите. Пусть глаза ваши привыкнут. Нам ваши глаза понадобятся. Пусть зеленовато-жёлтый кругляш солнечного послеобраза растворится в черноте, которую мы заботливо обеспечили. Половицы скрипят под ногами: гладкие, пружинистые доски, зелёные, как оливка в мартини, только что из лесов Ганимеда. Под жёлтой политурой можно учуять их запах. Пепел и медь. Пусть тьма дочиста выскоблит ваши уши, выскребет из них пузырящуюся шампанскую какофонию мира, который вы только что оставили позади. Пам нужны ваши уши. И ещё нам нужны ваши руки. Мы ведь все приматы, в конце концов. Мы любим прикасаться; мы любим ощупывать предметы. Ничто не реально, пока ты не можешь до него дотронуться. Со временем зрение обретёт чёткость; тени рассеются и разделятся как занавески. Ваши беспокойные пальцы обнаружат страницы, фотографии, большие и малые предметы — большей частью малые, — расположенные на подставках из уранского солевого камня, высеченных в виде вздыбившихся, увенчанных пеной волн, которые как будто вручают вам на хранение останки некоего кораблекрушения.
Идите, идите же сюда, здесь столько ещё можно увидеть.
Но не садитесь, нет. Нам надо, чтобы вы стояли. Тут у нас проектор, прямо тут — осторожнее, сэр, — справа от вас. И ещё один — берегите юбки, мадам, — слева. Но экрана вы не увидите. Вы и есть экран. Если вы соберётесь все вместе… да, именно так, встаньте рядком, как славные маргаритки. Высокие позади, низенькие в первом ряду. Итак, если вам удобно, мы можем начинать.
Это история о том, как видеть. Это история о том, как быть увиденным. Всё прочее — лишь средство. Уши помогают; руки утешают. Значение имеют только глаголы, связанные со зрением: гляди, смотри, узри, заметь. Вглядись. Созерцай. Засвидетельствуй. Глаз — наш владыка, и глаз поклоняется свету. То, что творит свет, суть благо; то, что его отнимает, суть страх. Мы забрали у вас свет, но вернём. Судите об этом так, как сочтёте нужным.
Господь — уж простите за столь громкое заявление в самом начале нашего знакомства — это глаз.
Было бы гораздо лучше, если бы вы согласились разоблачиться. Кожа — самый сокровенный и безупречный из экранов. Но поскольку вы явились из такого множества портов и сторон света, мы не ждём, что ваши табу по части приличий безупречно совпадут с нашими… О, спасибо, мисс, вы очень любезны. И вы, сэр, мы у вас в большом долгу. У почтенной дамы сложности с костюмом; вы не могли бы ей помочь, юная леди? Спасибо. Вы проявили чудесное великодушие и отсутствие предрассудков. Вы зрители, каких мы не заслуживаем. Возможно, вы почувствовали облегчение, сбросив шелка и кожу после такой жары? Как бы там ни было, мы потрясены. Мы попытаемся в той же степени обнажиться, в той же степени оголиться, сделаться в той же степени уязвимыми для радужки и зрачка, чьи укусы всегда намного яростней зубов.
Шум и стрёкот проекторов похожи на шум ветра, что внезапно поднялся посреди широкой пустыни. Посмотрите вниз. Вы видите, как женщина с тёмными волосами и грустными глазами молча движется по вашим животам, вашим грудям, вашим бёдрам, вашим лодыжкам. Перевёрнутая, обесцвеченная, мерцающая. Изогнутая и рассечённая изгибами ваших тел и возрастом плёнки. Вы её видите такой же, какой видите всех в этом мире: искажённой, перекошенной, перевёрнутой, преломлённой, искривлённой, изувеченной временем.
Возможно, вы узнаёте сцену. В конце концов, когда-то это был известный фильм. Когда-то она была знаменитой. Я слышу, как вы называете её по имени, сэр, — но это наше представление, так что умоляем позволить нам раскрыть всё в нужный момент.
Заметьте: в кино на вашей груди — день. Съёмочная группа готовится к утренним съёмкам. Ведущий оператор, массивный широкоплечий малый с элегантными усами, бреется перед зеркалом, прибитым к дереву какао. Зеркало висит под ухарским углом, наполовину воткнутое в бархатистую чёрную кору. По этому дереву вы понимаете, что растёт оно на поверхности Венеры, недалеко от моря. Позднее лето. На линзе объектива поблескивают капельки дождя.
Да, мой дорогой друг, вы и его тоже знаете по имени. Вы чертовски умны.
Ведущий оператор использует опасную бритву с инкрустацией в виде резной пластинки из окаменелых водорослей. Вы её найдёте у восточной стены. Не бойтесь; острой она не была со времён своей развратной молодости. Лезвие принадлежало его дедушке, матросу с торгового корабля, который играл на фаготе — чрезвычайно непрактичный инструмент для моряка, но как же старик любил свою дудку![5] Резьба на рукояти изображает морского змея, и каждая его чешуйка, круглая как ноготок, вырезана с любовью. Ведущий оператор обнажён по пояс, и кожа его тёмная, как неотснятая киноплёнка, лицо угловатое и широкое. В зеркале он замечает женщину и резко поворачивается, чтобы подхватить её на руки. Он её целует — звучно, но вы не слышите, — и пачкает её лицо кремом для бритья. Она бесшумно смеётся и бьёт его кулаком по руке; он отстраняется, изображая мучительную боль. Милая сцена. Некая призрачная досада загорается и гаснет в глазах женщины, точно фотовспышка, и самоуничтожается, превращаясь в любовь.
Заметьте: в кино на ваших ногах — вечер. Маленький мальчик в комбинезоне мальцового ныряльщика опустив голову бродит по кругу там, где раньше располагался центр посёлка под названием Адонис. Дома и постройки выглядят так, словно их исполосовали огромными рогами: разодранные, вскрытые. Руины покрывают длинные, неряшливые полосы чего-то, похожего на белую краску. Но это не краска. Адонис, потерянный город, уничтоженный, стёртый с лица земли без причины, без предупреждения. Загадка, которая заставила женщину пересечь космос и приземлиться посреди алых морей Венеры. Мальчик не поднимает головы, пока камера за ним наблюдает. Он не понимает, что его видит съёмочная группа, грядущая публика, мы. Он не видит собственного эха; он не слышит собственной проекции. Он просто кружит, кружит, кружит, снова и снова. Испорченная плёнка пропускает кадры и дёргается; мальчик как будто движется по кругу рывками, то появляясь, то исчезая из поля зрения. Облака медленно опускаются длинными, расплывчатыми спиралями. Целлулоид превращает безжалостное апельсиновое солнце Венеры в ослепительно-белую новую звезду. За мальчиком и руинами из пенного моря под названием Кадеш выглядывают перламутровые острова: мальцовые киты — целая стая, молчаливая, недвижная и бледная.
Итак. Вглядитесь, узрите, свидетельствуйте: третий проектор включается, дрожа, он видит, но остаётся невидимым, спрятанным за занавесом. Он направляет луч света на смеющуюся пару, крем для бритья, бритву, что когда-то принадлежала дедушке, любившему играть на фаготе. Изображение поверх изображения поверх плоти. Кажется, что женщина покидает объятия возлюбленного и вступает в бальный зал, внезапно превратившись в девочку с надутыми губами и кислым выражением лица, почти утопающую в жёстком кружеве и кринолине — наряде в духе одного из тех старых готических фильмов, которые мы так любим; может, вы его назовёте, сэр? Вы так много знаете; я ни на миг не поверю, что вы не вспомнили о «Призраках Моря Облаков», чудесном и омерзительном шедевре, благодаря которому режиссёр, Персиваль Анк, получил первую награду Академии. На вашей прекрасной груди разворачивается классическая сцена в бальном зале, где злодейку в окровавленной одежде настигает давно заслуженная кара. Маленькую девочку мы видим присевшей на корточки с несчастным видом возле фонтана с рисовым вином, где она грызёт ногти и плюётся отгрызенными кусочками в кружащихся танцоров. Великолепные платья вальсирующих призраков скользят мимо её лица, точно вуали.
Прошу вас, леди и джентльмены! Ваши протесты разрушают таинственную тишину нашей маленькой вселенной. Я вижу, вы буквально из кожи вон лезете. Вы должны быть готовы к этим перерывам, переменам, пересечениям. Они необходимы. Они — выдохи мертвецов. Люди не движутся упорядоченным образом от одной сцены к другой. Случайность подмяла под себя память; надежда и ужас раскинулись сверху. Наши дни и ночи — их бесконечные оргии.
Итак, слушайте: наш фонограф, потрескивая, издаёт голоса мужчины и маленькой девочки, той самой девочки, которая в этот миг мелькает серебром и чернотой на ваших бедрах, прижимает к лицу сжатые кулачки под пиршественным столом кровожадной Кларены Ширм.