Книги
Записки русского крестьянина
В Задонске обретались мощи* глубоко-чтимого народом Святителя Тихона. Огромные толпы паломников шли туда из всех углов России в день его Ангела. Жители Карачуна также направлялись туда.
Нужно сказать, что уездное начальство тоже вспоминало о жителях Карачуна только тогда, когда наступал момент призыва к отбыванию воинской повинности и когда нужно было взыскивать с населения недоимки*. Не будь этого, село Карачун было бы для уездных властей одной из ничего незначащих географических точек. Культурных связей с городом не было никаких ; школы в селе не существовало.
Земская больница*, на обязанности которой лежала забота о здоровье населения, находилась в 40 верстах от Карачуна и далеко от обычных главных путей сообщения жителей.
Что касается ветеринарной помощи, крестьяне имели о ней смутное представление или даже не знали о ее существовании.
Разные земские натуральные повинности выполнялись ими по распоряжению местных властей : земского начальника*, волостного старшины*, писаря и сельского старосты*. В большинстве случаев они не знали даже, что выполняемые ими повинности предназначены Земству. Они не знали точно, что такое Земство*, чем оно занимается и какая польза от него крестьянству.

Заботы Земства о здоровье населения проявлялись, главным образом, во время больших холерных эпидемий и в форме оскорблявшей их чувства. Что касается других болезней, даже во время эпидемии скарлатины и дифтерита, уносившей 15-20 детей в день, жители Карачуна не видели медицинского персонала в своем селе.
Не видели они у себя никогда и живущего в уездном городе ветеринара, даже во время падежа скота, настоящего бича для крестьянской жизни. Никогда не принималось необходимых мер, чтобы болезнь не распространялась. Так как ветеринар находился в 60 верстах от Карачуна, он искренно признавался, что в течение своей 25-летней службы ему так и не удалось попасть в село Карачун. И это признание было сделано им незадолго до Первой мировой войны. Поэтому-то крестьяне даже не подозревали, что существуют заразные болезни и у скота и что с ними можно бороться. И кто мог объяснить им это ? Коновал, который посещал село раз в год кастрировать молодых жеребчиков и попутно «пускать кровь » лошадям ? Он же давал какую-то мазь, всегда одну и ту же, действительную, по его мнению, от всех накожных болезней. Этот коновал-знахарь* научился этому искусству на практике : оно передавалось от отца к сыну. Он лечил « своими средствами» и животных и людей и применял их одинаково. Что касается заразных болезней, он знал о них столько же, сколько и крестьяне, то есть ничего.
К тому же крестьяне объясняли эпидемические болезни и мор скота божьим наказанием, посланным им за их грехи. С этим был согласен и коновал.
В 10 верстах от села Карачун была больница, основанная принцессой Ольденбургской*, туда они иногда ездили. Там они и видели докторов (крестьяне произносили « дохтур ») и « сестричек / в белых халатах. Они обращались туда, когда болезнь затягивалась, и знахари не помогали. « Почему бы не поехать в больницу ? Все равно нечего бояться : « дохтур » хуже не сделает, а может-быть и поможет ».
Персонал земской больницы очень редко приезжал в село Карачун. Чаще всего приезжал фельдшер* для прививки детям оспы. Население и знало его больше, не боялось и верило в действенность и полезность этих прививок. Это доказывает, что недоверие населения к докторам объяснялось не их косностью, а их незнанием, отсутствием общения с медицинским персоналом. Встречи
Так было с моим дедушкой, которого обрызгали известью и похоронен он был без отпевания в церкви. Между тем не было оснований думать, что он умер от холеры. Он жил в избе, в которой жила многочисленная семья. Мой отец, сам его обмыл и в гроб положил. Никто из членов семьи, в которой жил дедушка, не только не умер, но и не заболел этой болезнью, хотя вся семья жила в чрезвычайной скученности, и дедушка должен был бы заразить сейчас же других своей болезнью.
Санитары нарушали испокон веков установившийся похоронный обряд, по которому гроб с покойником оставался открытым от дома до церкви и оттуда — на кладбище. Последнее целование и прощание с усопшим происходило в церкви, и только на кладбище гроб закрывался крышкой, которая прибивалась гвоздями. Крестьяне не допускали и мысли, чтобы можно было хоронить православного по-иному, и действия санитаров глубоко оскорбляли их религиозные чувства. В этом была основная причина, так называемых, холерных бунтов, которые местами принимали значительные размеры, угрожали опасностью вылиться в общее восстание.
Лишь немногие женщины села Карачун знали о существовании докторов-акушеров, и никто из них не пользовался помощью этих специалистов. Дети рождались с помощью « бабок-повивалок »* без всяких дипломов, научившихся путем практики. Когда же роды происходили в поле, далеко от села (и это случалось частенько), бабку-повивалку заменяла одна из женщин, уже имевшая детей. Если же роженица была в поле одна с мужем, то обязанности « бабки » выполнял муж.
Знахари, знахарки и бабки-повитухи* были главными лекарями деревни. Они были всегда « под боком »и, в случае надобности, были готовы помочь. Знахари и знахарки лечили крестьян водой, « наговоренной »* на горячих углях от разных болезней. Наговоренной шерстяной ниткой они лечили от вывихов. Они давали разные чудодейственные снадобья, которые крестьяне носили в ладанке на одном шнурке с крестильным крестиком. Крестьяне верили в чудодейственную силу трав. Чеснок предохраняет от холеры, если его носить в ладанке. Они были очень набожны, твердо верили в Бога и в то же время — в существование домового*, русалок и ведьм, верили в колдовство. Они были убеждены, что земля держится на трех китах.
Таковым было село Карачун, моя колыбель, где я родился, и жители, среди которых протекли мое детство и отрочество, в конце XIX-го века. В сознании этих ревностных христиан сохранился остаток язычества, проникавший в их веру, бессознательно перемешиваясь с суевериями и православной религией. Русский народ был так сильно привязан к традициям, что он недоверчиво относился ко всем новшествам.
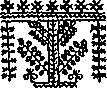
Мое первое воспоминание связано
Потом сестра ведет меня в сад. Там, на тропинке, я вижу лежит мужчина большого роста, черноволосый ; он громко рыдает. Сестра говорит мне : « Это наш дядя. » Но опять я не понимаю значения этого слова. Я никогда больше его не видел : он умер вскоре после пожара.
У моего деда со стороны отца было четыре сына и две дочери. Своего старшего сына он выделил из семьи еще до пожара. До пожара же была выдана замуж младшая дочь и оставила отчий дом*. Старшая же дочь не захотела выйти замуж и сделалась деревенской монашкой*. Она не пошла в монастырь, но продолжала жить около семьи своего отца. В это время (вторая половина XIX века) такие монашки были довольно многочисленны. Когда молодая девушка решала сделаться деревенской монашкой, ее семья строила ей на своей усадьбе, обычно около сада, маленькую избушку, такую, в которой мы и нашли приют после пожара.
Моя тетка зарабатывала себе на жизнь (пропитание и одежду), частью читая псалтырь над покойником, частью работая поденно в своей собственной семье или у соседей.
Летом все женщины и молодые девушки, покончив со своими хозяйственными обязанностями, отправлялись работать поденно на полях к окружающим помещикам. Весной, чтобы полоть свеклу, осенью, чтобы выкапывать сахарную свеклу. Самым большим поместьем было поместье принцессы Ольденбургской. Оно называлось Рамонь. Ее земли занимали часть двух уездов, соприкасавшихся с Воронежским и Задонским. Летом и осенью женщины окружающих сел и деревень работали там, но также и в Тамбовской губернии, в 30-40 верстах от их уезда. Этих женщин, занимавшихся добавочной работой, называли « заречными » : т.е.