Книги
Паутина (с иллюстрациями)
Здесь можно было сидеть долго из-за одной только музыки: сначала TRex, потом Джим Моррисон, потом Eagles… Правда, знаки времени проникли и сюда. Через зал прошли с пивом две совершенно одинаковые девушки в больших очках — в прошлом веке их сочли бы двойняшками, но теперь вариантов было больше. В данном случае стандартный вопрос «общие гены, общий хирург или общий кумир» отпал сам собой, когда очкастые девицы сели под портретом Дженис Джоплин, который они могли бы с таким же успехом назвать своим.
Незнакомка пересела от бара к столику и скинула плащ: теперь она была во всем черном. Она по-прежнему сидела спиной ко мне, я так и не видел ее глаз. А вдруг тоже Дженис Джоплин? Хотя очков у нее как будто нет… Я подумал, что было бы неплохо пойти к стойке, взять пива. И может быть, подсесть к ней. Вот только кончится «Отель Калифорния».
С последним аккордом я встал и двинулся к бару. Паузы между песнями не было — сразу зазвучала следующая, очень знакомая композиция. Но я распознал ее, только когда услышал голос БГ: «Если бы я знал, что такое электричество…» Это был очередной ремейк: голос тот же, но музыка иная — более тревожный, более чувственный industribal, гулкий и быстрый перестук электронного тамтама. Сев у стойки, я обернулся и нашел глазами рыжую.
Она танцевала.
Старость — это не возраст, сказал я себе.
Конечно, с годами наплывы чувства безвозвратности могут слиться в одно сплошное nevermore даже для здорового человека: изнашивается и камень. Но до тех пор, пока физическое состояние не вредит состоянию ума, старость ощущаешь лишь как приступ особого настроения — вроде укола грусти в момент взлета самолета… ох, врешь, врешь, опять красивые отмазки, нету ведь у тебя давно никакого самолета, а есть только песенка на чужом языке, которую раньше насвистывал, не зная смысла и подставляя свои слова, но лет через двадцать вдруг понял, что можешь ее перевести — и оказалось, там были такие банальные строки, кто-то хочет быть птицей и улететь, всего-то делов, прямо как школьное «почему люди не летают», точь-в-точь то же самое, только сам ты успел поседеть на этих вот переводах, а толку? Главное, что не напоешь ты больше ту песенку со своими словами, не просвистишь просто так, пропало то состояние, когда были альтернативы и для слов песенки, и для собственных устремлений — вот она, безвозвратность, и каждый ее приступ — отрубленная ветка возможной реальности, аборт не подкрепленного волей желания, новый игольный укол и стежок красной нитки, пришивающей лоскуток к его месту на одеяле.
В тот момент, когда я увидел незнакомку танцующей, ритм музыки показался мне ритмом швейной машинки, с помощью которой кто-то веселый и энергичный взялся намертво пристрочить меня к табурету.
Я по-настоящему ощутил себя старым.
О да, я многие годы танцевал на клавишах, в вихре слов и идей, танцевал на всплесках смеха своих читателей, на эмоциях тех, кто слушал мои стихи, на нервах тех, кто сам танцевал под мои песни. Но я так давно, а может, и вовсе никогда не танцевал по-настоящему — телом. Рита любила сравнивать наших знакомых со зверями, и когда я однажды спросил ее, кто я, она сказала: «А ты, Викки — Все-Звери». Но вот где было самое настоящее «Все-Звери» — в танце этой рыжей в черном! Она оборачивалась то лисицей, то чайкой, то коброй, то веткой дерева на ветру; толпа танцующих росла, и долговязый парень вылез на середину, где кружилась рыжая, но рядом с ней выглядел как деревянный клоун, и она от него улетела — белые танцевать не умеют, говорила Паула с жутким испанским акцентом, она-то уж точно никогда не видала такого танца, такое видал разве что чешский мастер на все руки Альфонс Муха, но и его самый быстрый на свете карандаш ухватил лишь момент, когда она взлетает на цыпочки и вот-вот взлетит еще выше, вслед за пламенными языками волос — миг, о который ломаются карандаши всех художников мира и всех поэтов, а она лишь хохочет и летит дальше, вот-те и языковый барьер, филолог фигов, watch your vowels, преподаватель: бретелька с плеча — придыхание, росчерк в воздухе краем юбки, вокруг шпильки против стрелки, говори-говори-заговаривай, качайся-кружись, еще оборот — и круг танцующих двинулся в противоположную, по часовой, перешел в «паровозик», остальные стали пристраиваться, сороконожка ходила петлями между столами, задние тянулись схватить рыжую, звали ее в «паровозик», но она легко уворачивалась, не изменяя рисунка танца — удивительно было, как она все это видит, ведь огненная копна волос разметалась так, что казалось, у танцующей вовсе нет глаз.
Музыка оборвалась так же резко, как началась. Заиграло что-то спокойное. Народ разбредался к своим столикам, лишь одна пара осталась танцевать медленный танец.
Я повернулся к стойке и попросил пива. Пока в полунаполненной кружке отстаивалась пена, бармен прокатил через кассовый аппарат мою личку, снимая нужную сумму, потом долил пива и передал кружку мне. Я с удовольствием ощутил холодную поверхность стекла… и понял, что совершил ошибку.
Не нужно было брать пиво, нужно было пригласить рыжую танцевать!
Оборачиваясь, я уже знал, что опоздал. Там, где пару минут назад лежал ее зеленый плащ, теперь тускло блестела черная, отполированная множеством задниц пустая скамейка. Старику с вечномокрыми носками сегодня больше ловить нечего, грустно подумал я. И был неправ.
Когда я вернулся домой, в интерьере комнаты обнаружились новые яркие пятна. Аура орхидеи переливалась синим вихрями, словно цветок держали в огне газовой горелки. Новая почта. И не маленькая реплика, а приличное письмо. Я лег на пол перед «сонькой» и открыл почтовое окно.
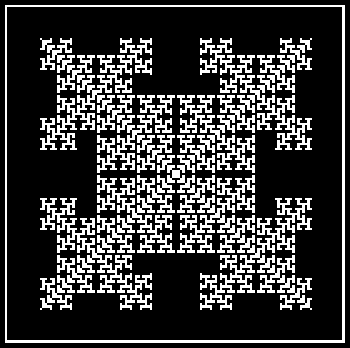
Клетка 8. ГОЛОС-I