Книги
Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте
У Гофмана – предвидение фантастического, предвидение победы магических сил. Внутри просветительских позитивистских структур жизни проявляется и побеждает магически созданный урод. Так возникал Гитлер. Так возникал Ленин. Из ничего. Из слов окружающих. В ХХ в. – из слов прессы. Гофман через Цахеса показывает то, насколько пало общество, даже из уродца карлика делая себе кумира (кстати, для Германии эта «сказка» во многом выглядит пророческой: крошка-уродец Гитлер), так же как Смердяков Достоевского для России.
Этим владыкам подвластны не только меркантильные инстинкты толпы, но и достижения искусства. Студент встречает бегущего из княжества знаменитого скрипача:
«– Да что же случилось? Скажите, Бога ради, что случилось? – вскричал Бальтазар.
– Я играю, – продолжал Сбьокка, – труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю, и еще ни разу не случалось, чтоб он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа – anima, разумею я, весел сердцем – spirito alato, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания – furore, разумею я, чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кричат: “Bravo, bravissimo, божественный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!” Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит: “Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света”. – “Тысяча чертей! – воскликнул я. – Кто же наконец играл: я или тот червяк!” И так как малыш все еще гнусавил: “Покорно благодарю, покорно благодарю”, – я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: “А какая композиция!” И все наперебой начинают кричать: “Какая композиция! Божественный Циннобер! Вдохновенный композитор!” С еще большей досадой я вскричал: “Неужто здесь все посходили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я, я – прославленный скрипач Винченцо Сбьокка!” Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве – rabbia, разумею я, о странных случаях, наконец силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегает синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: “Bravo, bravissimo, Циннобер!” И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он опять загнусавил свое проклятое “благодарю”. Синьора Брагацци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. <…> С этими словами господин Винченцо Сбьокка обнял оцепеневшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила. “Ну, разве не был я прав, – рассуждал сам с собою Бальтазар, – ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей порчу”».
Возникает тема управляемой магической силой и управляющей обществом толпы. Где магизм, там толпа. Но толпа магией управляема. Однако всегда есть тот, кто ищет (или невольно получает) эту магическую силу. Есть, так сказать, носитель.
В ХХ в. Томас Манн в новелле «Марио и волшебник» (1930) подхватил эту тему, когда она уже проявилась и стала фактом общественной жизни[221]. Писатель называет явившегося на сцене мага «роковым Чипполой»[222]. Роковыми были и Цахес, и Смердяков.
Нарисованный Манном маг подчиняет своей воле сидящих в зале зрителей, заставляя верить в то, чего нет, или, словами Манна, проводит опыты «обезличения человека и подчинения его чужой воле» [Манн 1960, 207]. А одного из зрителей, простого парня, официанта Марио, маг просто превращает в свою игрушку, подвергая его всевозможным издевательствам. Поразительно, что внешний его облик – что-то среднее между обликом Цахеса и Смердякова. Он горбун, как Цахес, как Цахес и Смердяков одевается с некоторым шиком: «Он был одет элегантно, в причудливый вечерний костюм». Однако, как у Цахеса «платье сидело на нем как-то странно: в одном месте натягивалось и неестественно облегало фигуру, в другом – криво свисало неправильными складками или болталось, как на вешалке». И психологически похож, напоминая злобность Цахеса и угрюмство Смердякова: «В его облике сквозила суровость, чуждая всякого юмора, временами угрюмая гордость, а также характерное для калеки преувеличенное самодовольство» [Манн 1960, 185].
Магия имен
Стоит добавить, что тема магии давно тревожила немецкий гений. Если вдуматься, то все начало «Фауста» – это поиск героем магической силы, поиск, отдающий его в руки дьявола. К магии (как показал Гёте) обращаются в ситуации житейских и душевных неполадок, неурядиц, передряг. Как только что-то не заладилось, маг, магическое всегда под рукой. В этом смысле несчастный Цахес подобен великому доктору. В самом начале трагедии Фауст произносит монолог в своем кабинете:
Жизнь Цахеса не заладилась с самого начала. Как впоследствии жаловался герой Достоевского Смердяков: «Если б не жребий мой с самого сыздетства». То, к чему Фауст приходит в результате духовной борьбы, ущемленные жизнью желают получить сразу.
Остановимся на именах героев. Флоренский, видевший в ономастике элемент магизма, писал: «Как и магическое действие известной ступени вовсе не произойдет, пока энергия, хотя бы имеющаяся в большом количестве, не будет организована определенным образом, доводящим ее уровень до известной высоты; а тогда, легко и без усилий, она хлынет на нуждающиеся в ней поля и сама собою, “как бы резвяся и играя”, взрастит магические пажити. И если наиболее высокою степенью синтетичности обладают из всех слов – имена, личные имена, то естественно думать, что на последующей после терминов и формул (– а формула, напоминаю, есть не что иное, как тот же термин, но в развернутом виде —) ступени магической мощи стоят личные имена. Действительно, имена всегда и везде составляли наиболее значительное орудие магии, и нет магических приемов, кроме разве самых первоначальных, которые обходились бы без личных имен. При этом нам нет надобности входить в спор, производят ли свои действия самые имена, взятые in abstracto, или пути действия здесь сложнее и приводят к своим завершениям только чрез посредство слов»[224].
И как потрясающе играет Гофман с именами, которые отзеркаливаются в произведениях великих предшественников. Маг Просперо Альпанус – это, разумеется, герой шекспировской романтической трагедии «Буря» Просперо (ведущий борьбу с мерзким уродом Калибаном), повелевающий миром духов, благородный и великий изгнанник. В этом контексте крошка Цахес, желающий жениться на невесте студента Бальтазара Кандиде, выступает как Калибан, символ третьего мира или европейских люмпенов, неполноценное человеческое существо, мечтающее захватить себе в жены дочь Просперо Миранду. А возлюбленная героя девушка Кандида «простодушная», имя которой восходит к повести Вольтера «Кандид», поэтому с ней чуть было не справился наделенный магической силой Цахес, как он справился и со всем просвещенным княжеством. Спасителем героев выступает могучий Просперо Альпанус, владыка духов, как и Просперо у Шекспира.
Но еще интереснее имя главного героя – крошки Цахеса, по прозвищу Циннобер. Здесь Гофман многосмысленно играет с разными значениями немецких слов. Некоторые исследователи видят в имени крошки немецкое слово zach: 1) запуганный, робкий, боязливый; 2) zäh – нерешительный. Но по всему ходу повести мы видим, что Цахес отнюдь не робок, а настырен и злобен. Стоит обратиться ко второму значению слова, которое переводится: «вязкий; клейкий; густой, упорный; цепкий». То же с его прозвищем Циннобер. Обратимся к значению его, оно более сложно и двусмысленно, чем первое. Итак: «Zinnober: 1) – s киноварь (минерал, краска), 2) – s ерунда, вздор, нелепость, бессмыслица». Как мне приходилось встречать в работах, посвященных повести, чаще это прозвище переводят как «киноварь», то есть нечто красивое, что скрывает подлинный уродливый облик Цахеса. В этом есть резон. Но, как всякий большой художник, умеющий играть со словом, Гофман, конечно, имел в виду и второе значение слова. Если мы возьмем его, то получается вполне внятное наименование героя. Цахес Циннобер – вязкая, цепкая нелепость и бессмыслица. Иными словами, бессмыслица, которая утвердилась в умах. Это, конечно, предвестие нацистской бессмыслицы. Сегодня это стало вполне очевидным. «
Бессмыслица выстраивает общество, как ей угодно.
Гофман говорил, что сказка лишена души, если в ней нет философского взгляда на мир. «Крошка Цахес» и реализует новое прочтение мира, некую возможность его философского прочтения. Маленький урод присваивает себе все доброе и прекрасное, что делают его окружающие. Даже не присваивает, некоей магией делается так, что все, что бы ни создавалось замечательного, – приписывается толпой Цахесу. «Перед нами – мир, в котором почести и жизненные блага, – пишет комментатор повести, – воздаются не по уму или реальным заслугам, а в силу загадочного психоза, охватившего все общество. Это – мир безумный, сдвинутый, абсурдный.
В изображении такой действительности Гофман – несомненный предшественник Кафки»[226]. Но еще раньше – Достоевского.
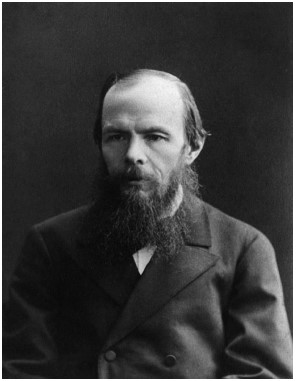
Стоит отметить сразу поразительную перекличку крошки Цахеса и Павла Смердякова. Первое имя обоих – маленький. Это отмечалось не раз: «Имя Смердякова
Напомню, что Цахес выходец из народа, сын крестьянки Лизы и деревенского мужика. Ну а Смердяков? Кто он таков? Разумеется, Смердяков –
Достоевсковед В. Беляев провел немалую работу, пытаясь разобраться в этом образе. Вот два его соображения. Первое: «Итак, слово “смерд” у Достоевского означало и рабскую зависимость от кого-либо и/или чего-либо, и “смрад-грех”, и “смерд-народ”, причем разграничить эти значения слов в каждом отдельном случае не всегда и возможно. Поэтому мы вправе считать, что указанные значения суть компоненты семантики первой части фамилии Смердякова»[229]. И второе: «Что касается второй части – “Яков”, то можно предположить, что Достоевский имел в виду библейского Иакова, младшего из братьев-близнецов. <…> В Библии повествуется и о борьбе Иакова с Богом. Именно на это место из Библии указывает о. Зосима как на рекомендуемое для устного чтения “малым сим” <…>. Нетрудно видеть, что именно богоборчеством отмечены многие поступки и высказывания Смердякова: от карнавально-кощунственного профанирования церковной обрядности при “похоронах” повешенных кошек <…> до предсмертного признания Ивану: “Нет-с, не уверовал-с” <…> и самоубийства»[230]. Итак, русский народ не случайно совершил богоборческую революцию, не случайно С. Булгаков жаловался, что в революцию выяснилось, что христианство слабо было укоренено в народе. Повторю Даля: «Где смерд думал, тут Бог не был». Но не надо забывать и аллюзию, идущую от Геродота. От русских проблем, русской жизни – перед нами смерд. Но магизм Смердякова еще и от мага Смердиса[231]. А, как замечал о. А. Мень, подлинная религиозная жажда чужда Магизму, ставящему на место молитвы, веры и любви волхвование, заклятие, принуждение. По мысли же Флоренского, простой русский человек был склонен к волхвованию, заклинаниям в той же мере, как и к православию, более того, эти народные верования лежат в основе народного христианства и т. п.