Книги
Бунт на борту
— Сначала комсомолец, потом жигит! Пора ломать эти мелкобуржуазные привычки!
Комсомольцы виновато молчали.
А когда сидевшие вокруг Нуржана люди криками назвали имя вырвавшегося из свалки жигита, великолепное, отныне легендарное имя победителя — экспедитора Кагена, Нуржана затопила темная, звериная, ревнивая злоба. Кровь кинулась в голову, застлала слух, затемнила глаза. И в глухоте, в потемках крови, размахивая руками, что-то выкрикивая, побежал он с холма вниз. Он сорвал на бегу бархатный халат, оставшись только в рубашке, подпоясанной ремешком с висевшим на нем всяком, сорвал очки и вскочил в седло. Он затянул повод, и огненно-рыжий конь словно зажегся под ним, пошел боком, мелко перебирая ногами, будто конфузясь, пока Нуржан не ожег его с пьяной беспощадностью камчой. Он не слышал, как отец закричал ему вслед:
— Ну! Заставь, сынок, всех глотать пыль!
Ветер скачки зашипел в его ушах, серо-замшевые от пыли лица всадников прыгнули в глаза, он ворвался в потную, горячую тесноту кокпары, но тотчас, немилосердно полосуя огненного жеребца камчой, вырвался из тесноты и понесся в погоню за Кагеном.
Экспедитор был умен и коварен. Он не выбрасывался далеко вперед, не тревожил преследующих, оставляя им надежду, лишь бил камчой по передним ногам опасно приближавшихся коней, срывая их бег. Правая его ляжка прижимала к седлу пыльный кусок вонючей падали — трофей победы. Студент и экспедитор почти лежали на шеях лошадей и, казалось, не скакали, а летели над землей. Нуржан нагнал соперника, потянулся к окровавленной шкуре, но Каген ловко перекинул козла на левую сторону седла, стегнув Нуржанова жеребца по коленкам камчой. Ненавидя Кагеновы руки, осмелившиеся прикоснуться к Жаукен, а сейчас отнимающие победу, Нуржан выхватил псяк и всадил его в круп Кагенова коня. Обезумев от боли, конь вскинул зад, а Каген, взмахнув руками, опрокинулся на спину и, потеряв стремена, свалился с седла. Нуржан тотчас туго затянул повод, почувствовал, как плавная сила взмыла его кверху, и обрадовался, увидев под собой, под копытами взвившегося на дыбы жеребца, потное и пыльное лицо Кагена.
Пьяный бухгалтер вскочил и заорал:
— Гляди, гляди! А ну давай, давай! Ай да молодец, Нуржан!
А старый Байжанов закричал тонко от радости и ударил бухгалтера малахитовыми четками, видя, как жеребец сына топчет, дробит копытами упавшего Кагена.
Нуржан мчался уже с лаком к холму, где сидели на белой кошме судьи, он будет теперь пить кумыс со стариками — великая честь для лучшего наездника, — а Жаукен спустилась с холма и, повязывая на ходу голову длинным шарфом, пошла не навстречу победителю, имя которого Нуржан Байжанов, а на дорогу, ведущую к полустанку.
Она уходила не спеша, ровно, спокойно, не оглядываясь, как уходит бесповоротно решивший. Но за аулом ее нагнали на телеге комсомольцы.
Нуржан Байжанов не вернулся в институт. В Жаман-Жол приехали милиционеры и увезли его в город. А на могилу комсомольца Кагена уже приходят паломники и больные, ищущие исцеления, ибо убитые в кокпары считаются святыми. Но это скоро прекратится — и кокпары и паломничество на могилу святого Кагена. В Жаман-Жоле выстроена школа и на днях туда приезжает учитель, комсомолка Жаукен.
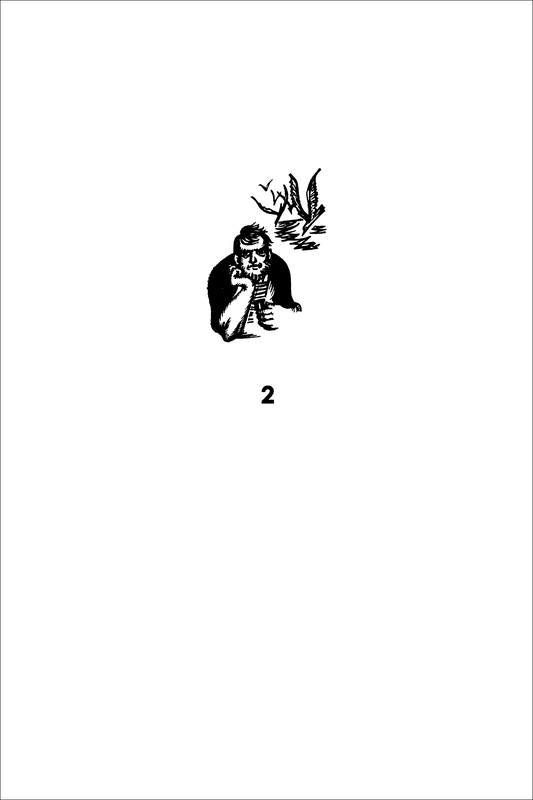
II
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ХИТРОУМНОЙ ВЫДУМКЕ БЛАГОРОДНОГО КАБАЛЬЕРО БЛАСКО ДЕ-ГАРАИ, ЗАТЕМ О КОРОЛЕВСКОМ ГАЛЕОНЕ «ИОНА ВО ЧРЕВЕ КИТА», ПЛЫВУЩЕМ БЕЗ ПАРУСОВ НАВСТРЕЧУ ВЕТРАМ, И О ШТАНАХ, СОДРАННЫХ С ДОНА ПАНКРАСИО, А В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПЕЧАЛЬНОЙ, В НОЧНОЙ ТЬМЕ, КОНЧИНЕ БЛАГОРОДНОГО КАБАЛЬЕРО

И, пыль веков от хартий отряхнув…
Наша гвардейская пехота захватила городок ночью лихим, коротким ударом. Пехотные части пошли дальше, преследуя отступавшего противника, а наш дивизион вступил в город на рассвете. И словно в средневековье вошли мы, словно не Великая Отечественная война грохотала на холмах и равнинах Германии, а Крестьянская война XVI века. Узенькие, темные улицы, дома с островерхими, крытыми черепицей крышами, с выступающим вторым этажом, каменные пики готических церквей, горбатый каменный мост через речушку, тяжелые, окованные медью ворота, железные узорные фонари и крошечная базарная площадь с каменным святым посередине. Казалось, городок живет только своим прошлым и, как блоковская Равенна, дремлет «у сонной вечности в руках». Странно было видеть робко двигавшихся по улицам приниженно сгорбившихся немцев в пиджаках и галстуках, ожидалось, что из-за угла выйдет сейчас ландскнехт с мушкетом и в латах, или дворянин в длинных чулках и в шляпе с плюмажем, или богатый бюргер, одетый в кафтан из цветного сукна.
Маленький, уютный средневековый городок. Дрянь-городок! Из таких филистерских нор, из таких духовных болот струилась зараза шовинизма, расизма, человеконенавистничества.
Но нет, не ушли мы в средневековье. Нас вернули в современность белые стрелы на стенах, указывающие бомбоубежища, и огромные буквы на цоколе каменного святого: «Мы никогда не капитулируем!» Святой злобно стиснул каменные губы.
Я остановился около старинного большого дома, увитого плющом с невинными белыми цветочками. В дом вела толстая дверь из почерневшего дуба, с тяжелым бронзовым молотком вместо звонка, а рядом с дверью, на стене, мраморная доска золотым готическим шрифтом извещала, что здесь помещается городская гимназия. Над доской, конечно, каменная свастика. Дверь была неплотно закрыта, и я вошел. Нижний этаж занимали подсобные и хозяйственные помещения: раздевалка, кладовка для дров, несколько жилых комнат со скромной обстановкой, носивших следы поспешного бегства — видимо, квартиры швейцара, истопников, уборщиц.