Книги
Страшный Париж
Книга выходца из России, живущего во Франции Владимира Рудинского впервые была издана за границей и разошлась мгновенно.
Еще бы, ведь этот уникальный, написанный великолепным языком и на современном материале, «роман в новеллах» можно отнести одновременно к жанрам триллера и детектива, эзотерики и мистики, фантастики и современной «городской» прозы, а также к эротическому и любовному жанрам.
Подобная жанровая полифония в одной книге удалась автору, благодаря лихо «закрученному» сюжету. Эзотерические обряды и ритуалы, игра естественных и сверхъестественных сил, борьба добра и зла, постоянное пересечение героями границ реального мира, активная работа подсознания — вот общая концепция книги.
Герои новелл «Любовь мертвеца», «Дьявол в метро», «Одержимый», «Вампир», «Лицо кошмара», «Египетские чары» — автор, детектив Ле Генн и его помощник Элимберри, оказываясь в водовороте загадочных событий, своими поступками утверждают — Бог не оставляет человека в безнадежном одиночестве перед лицом сил зла и вершит свое высшее правосудие…
В тексте книги сохранена авторская орфография и пунктуация.
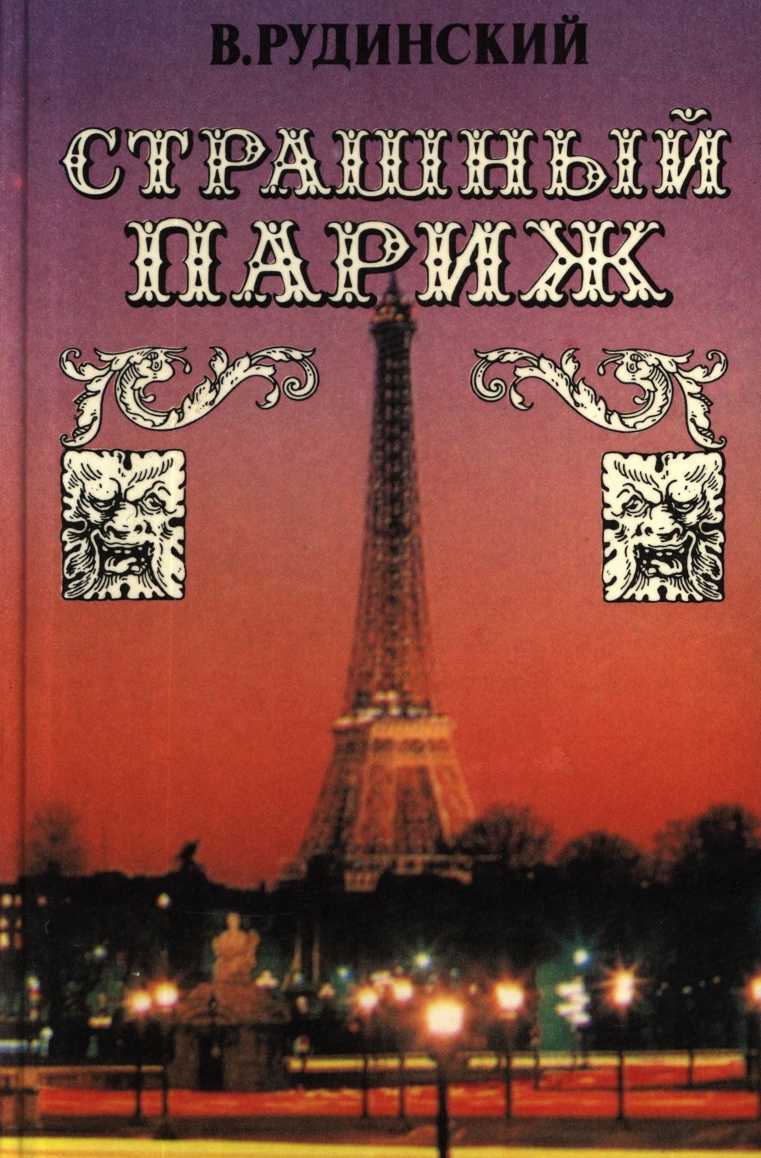
1.0 - создание
Владимир Рудинский
Страшный Париж

ЦВЕТА ТУМАНА
или НЕСКОЛЬКО СТРОК О «СТРАШНОМ ПАРИЖЕ» И ЕГО АВТОРЕ
Есть, думается, определенная закономерность в том, что книги, подобные этой, приходят к российскому читателю именно сейчас, когда в умах и сердцах по-настоящему мыслящей и чувствующей части нашей читательской и зрительской аудитории происходит неспешное, углубленное, сосредоточенное накопление культурно-эстетической информации. Происходит, действенно и убедительно споря с вызывающими проявлениями нового бескультурья в обществе, наконец-то отрешившемся от идеологического догматизма, наглядно свидетельствуя, что ни одно духовное семя, в те или иные времена заброшенное в искони плодородную, надо признать, на редкость плохо и небрежно возделываемую, российскую почву, не пропадает втуне.
И.Бунин и В.Набоков, Н.Гумилев и В.Ходасевич, Д.Мережковский и З.Гиппиус, П.Флоренский и Н.Бердяев, И.Ильин и Л.Шестов; эти гигантские фигуры и имена, возвращающиеся в наш культурный обиход после более чем полувековой «паузы», говорят сами за себя. А сколько еще других! Всего за одно десятилетие они составили толстый том библиографического справочника, сухие строки которого звучат для слуха каждого русского сладкогласной музыкой[1].
Запоздало покаюсь в невольной своей вине: сложись обстоятельства чуть иначе, и справочник этот оказался бы богаче еще на одно неординарное писательское имя. Это имя (точнее, литературный псевдоним) — Владимир Рудинский.
Мне не доводилось встречаться с ним лично, хотя волею случая и по инициативе моей доброй знакомой случилось обменяться с ним несколькими письмами. А начало нашему эпистолярному знакомству положила книга под интригующим названием, любезно присланная мне автором и лежащая ныне перед читателем. Первоначально она увидела свет два года назад за многие тысячи километров от невских берегов, где родился ее автор после октябрьского переворота, но до того, как великий град Петра стал градом Ленина.
Выходец из интеллигентной дворянской семьи, Владимир Рудинский с ранних лет обнаружил склонность к изучению иностранных языков. И скорее закономерностью, нежели случайностью, явилось то, что, с немалой пользой для себя проучившись несколько лет на филологическом факультете Ленинградского университета (где в числе его учителей были такие корифеи тогдашней академической науки, как В.Ф.Шишмарев и Г.А.Гуковский, С.С.Мокульский и А.А.Смирнов), он с блеском окончил его в канун Великой Отечественной войны, специализируясь по испанскому языку и литературе, готовился к кандидатской диссертации по творчеству Кальдерона… А потом оказался в числе многих тысяч граждан, в судьбы которых круто и необратимо вмешалась стихия грозной Истории.
Ее своевольная прихоть в год окончания второй мировой войны привела его в Париж, ставший затем на полвека постоянным прибежищем и средой обитания молодого русского филолога с неутолимым интересом к лингвистике и несомненными способностями к литературе и журналистике. В послевоенные годы, в поте лица зарабатывая на пропитание, он, можно сказать, на чистом энтузиазме окончил одно из престижнейших в Западной Европе высших учебных заведений — парижскую Школу Восточных Языков — и в дальнейшем посвятил себя труднейшей задаче: исследованию проблем австронезийских языков (или, проще, группы языков, на которых говорит население ряда стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна). Не мне судить о значимости внесенного ученым в науку индивидуального вклада; скажу лишь, что статьи его публиковались в лингвистических журналах, выходящих в разных странах и на разных языках. И можно лишь посетовать на то, что на творческий «вызов» своего парижского собрата не слишком спешат откликнуться отечественные языковеды. Увы, не первый и не последний случай в практике современной науки…
Впрочем, филологические штудии В.Рудинского никоим образом не ограничивались лингвистикой. Его блестящей эрудиции, широте его культурных интересов трудно не позавидовать. С неменьшим знанием дела, вкусом и интуицией писал он и о «кельтских мотивах в русской литературе» (так озаглавлена одна из интереснейших его статей), о многих ярких явлениях русской словесности в прошлом и настоящем. Последнее, впрочем, вплотную смыкает его как ученого с публицистом и прозаиком.
Перечень периодических изданий русского Зарубежья за сорок послевоенных лет, где появилось и продолжает появляться его имя, оказался бы слишком длинен для этих кратких заметок; достаточно сказать, что из уст наших соотечественников, в последние годы, спасибо перестройке и гласности, все чаще наезжающих в Москву и Санкт-Петербург, не раз доводилось слышать о нем как о строгом, взыскательном рецензенте с точным пером и не менее проницательном мемуаристе. Заинтересованное внимание русскоговорящей зарубежной аудитории привлекли к себе и от времени до времени появляющиеся на страницах периодики изящные новеллы-миниатюры В.Рудинского, по преимуществу романтико-психологического и фантастико-детективного свойства.
Из россыпи этих, создаваемых на протяжении долгого времени миниатюр, главным связующим звеном между которыми становятся образы двух персонажей-расследователей: инспектора Ле Генна из «Сюртэ Насио-наль» и его помощника с экзотическим именем Элим-берри — «двойников» бессмертных конан-дойлевских Шерлока Холмса и доктора Ватсона, воскресших в облике эксцентричных бретонца и баска на почве французской столицы и провинции в середине нашего беспокойного столетия, — сложился «Страшный Париж»: исполненное таинственности, неожиданности и напряженного драматизма повествование, структурно тяготеющее к ставшей ныне едва ли не раритетом форме «романа в новеллах», которой, заметим в скобках, воздавали должное, в числе прочих, такие крупные мастера художественной прозы, как Щервуд Андерсон и Уильям Фолкнер.
Впрочем, если вглядеться поглубже в родословную этих постоянных героев книги, наделенных, как и ее автор, острым даром аналитической дедукции, недюжинной эрудицией и столь же ненасытимой потребностью разгадывать самые неразрешимые, казалось бы, загадки, распутывать безнадежно запутанные клубки обстоятельств, то окажется, что Владимиру Рудинскому — литератору, герою-повествователю и даже активному участнику некоторых прелюбопытных «казусов» из области естественного и сверхъестественного (да, да; в ряде новелл «Страшного Парижа» он, «не таясь», выступает под собственным именем — и только нам с вами, дорогой читатель, ведомо, что это — литературный псевдоним нашего, не вовсе чуждого безобидного лукавства, современника) — несравненно ближе, нежели Конан Дойл и даже менее отстоящий от нас во времени «создатель» комиссара Мегрэ Жорж Сименон, художники принципиально иной образно-мировоззренческой ориентации. Это — творцы романтической и постромантической готики: Эдгар По, Проспер Мериме, Вилье де Лиль-Адан, Шеридан Ле Фаню, Брэм Стокер, Хауэрд Филипс Лавкрафт…
Ряд можно продолжить (он явно будет неполон без позднего Ги де Мопассана, а из русских — мастера изысканных, с налетом метафизической мистики, историй И.С.Тургенева). Дело, однако, не в именах, не в источниках художественных влияний, определивших писательскую манеру Владимира Рудинского: «литературная» лишь в той мере, в какой это обусловлено авторским замыслом, она при всей своей «итровой», рассчитанной прежде всего на образованного, знающего цену писательскому слову читателя, природе совершенно самостоятельна и в чем-то неотразимо привлекательна.