Книги
Шесть заграниц
Дуглас Макартур в начале столетия был адъютантом президента Теодора Рузвельта, автора политики «большой дубинки», агрессора, любимого персонажа желтой прессы с его африканскими охотами и приключенческими путешествиями. Биограф отмечает как важный в жизни своего героя следующий факт. Однажды президент был в плохом настроении и спешил на какое-то совещание. Но его окружили члены конгресса и журналисты. «Тэдди» весь кипел от отвращения.
«Неожиданно показался слуга с подносом прохладительных напитков. Макартур, как всегда наготове, подставил ему ножку, и слуга споткнулся. Поднос упал на пол, а жидкости выплеснулись на конгрессменов и журналистов. Пока они, отряхиваясь, расступились, президент скрылся. После этого случая Дуглас Макартур удостоился следующей похвалы своего шефа: «Мак, вы великий дипломат. Вы обязательно должны стать послом».
Раскрыв таким образом перед читателем кое-что из методологии американской дипломатии, автор биографии устремляется дальше по пути восхваления гениального человека и его специальности, я же, следуя своей отметке «выяснить», обращаюсь к справочным материалам. Дело в том, что, дойдя до фразы «сто наполеонов в одном», я вдруг был пронзен подозрением: а что, если эта биография просто бойкий памфлет против американской военщины и столь видного ее представителя, как Макартур? Я же попаду в дурацкое положение, не поняв такой простой вещи… Но мне было жалко отказываться от яркого портрета человека, который, став диктатором Японии, сделал все, чтобы сохранить в целости самые реакционные силы страны. То есть покровительствовал людям, подготовившим Пёрл-Харбор, людям, начавшим яростную борьбу с его родиной.
Мои подозрения были напрасны. Автором биографии оказался отнюдь не памфлетист, а некто Френсис Тревельян Миллер, профессор, считающийся авторитетнейшим историком военного дела в США. Так что «сто наполеонов в одном» или «каждый дюйм — это мужчина» мы должны принимать отнюдь не как издевательство и даже не как безвкусные метафоры провинциального репортера, а как научные формулы, характеризующие профессиональный идеал американских военных кругов и вместе с тем бросающие некоторый свет на уровень их культуры.
Когда на следующий день после приезда мы впервые вышли в город, первое, что мы увидели, была толпа японцев перед американским штабом. Потом один из американских журналистов объяснил, что эти люди ждут выхода Макартура к завтраку. По мнению журналиста, главной чертой японского воспитания являлось благоговение перед власть имущими, так что после разгрома многие японцы перенесли свою восторженную любовь к властителям на нового «сёгуна» — американского генерала. Не знаю, насколько он был прав. Может быть, встречались и такие люди, однако мне лично не приходилось их видеть.
Глядя на штаб «ста наполеонов в одном», мы не знали еще, что новый бонапарт прикажет закрыть 1212 левых газет, освободит большинство военных преступников, мобилизует 25 тысяч полицейских для розыска девяти деятелей компартии, объявленных им вне закона, и что вообще он и его двор будут, по существу, реставраторами японского империализма, а одновременно, конечно, губернаторской властью Соединенных Штатов на Японских островах.
ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА
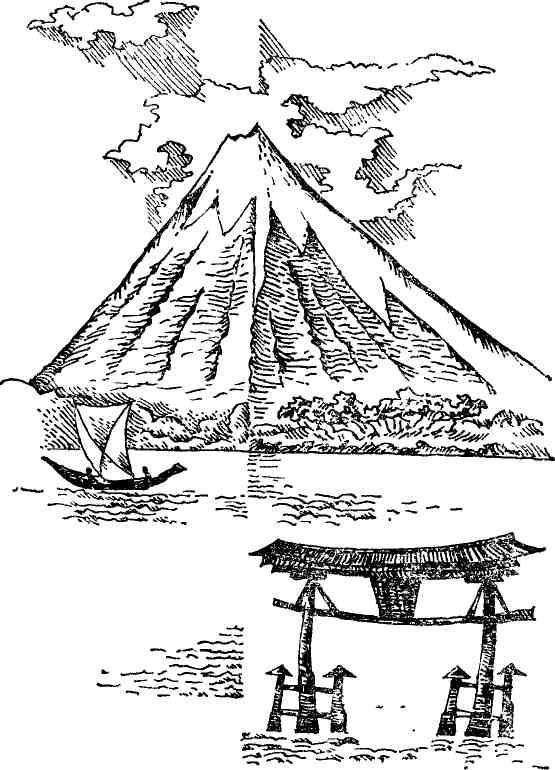
УЭНО
Звук этого слова до сих пор сжимает мне сердце.
Теперь там, конечно, наведен порядок, ведь это возле самого центра столицы. А тогда, в 1946 году, туда стекались те, кто не ухитрился сохраниться за страшные годы войны.
Парк Уэно и вокзал Уэно…
Я не буду обсуждать вопрос о том, считать ли с п р а в е д л и в ы м налет японских самолетов на Пёрл-Харбор, когда в результате внезапного нападения была почти полностью разгромлена главная база американского военного флота на Тихом океане и американцев погибло более двух тысяч человек, в десять раз больше, чем японцев, как и вопрос о том, признать ли с п р а в е д л и в ы м и налеты американской авиации на Токио, когда в этом городе было уничтожено 746 000 домов и осталось без жилья 2 857 000 человек, преимущественно бедняков или людей малого достатка. Я только хотел привести эти цифры, чтобы сравнить потери в войне и чтобы показать, из кого вербовались люди, населявшие в то время парк Уэно и вокзал Уэно.
…Мы спустились в подземные коридоры вокзала. Для сохранения равновесия своей души лучше было этого не делать.
Мы попали в тот круг ада, который не посетил Данте: ад беспламенный и безморозный. Ад без осужденных, без мучителей и без затворов.
Нет в языке терминов для обозначения смертельного зловония, которое поднималось от пола, от луж мочи и фекалий, хлюпавших под ногами. Дыхательные пути не хотели принимать этой отравленной гущи, они сжимались, требуя немедленного бегства.
Тьма. То там то тут в гулких трубах коридоров вспыхивали огни — зажженный мусор, сено или ветки, принесенные из парка. Свет вырывал людей вокруг — они сидели в более сухих местах, привалившись к стенам от слабости. Вместо лиц у них были маски из пепла и сажи. Ноги забинтованы в тряпье и газеты. На теле остатки чего-то, что когда-то было тканью, некоторые почти совсем обнажены. Я заставлял себя записывать скорее ради самодисциплины, чем для памяти, ибо забыть все это было невозможно. Тут были матери, раздутые от голода и маниакально обороняющие какие-то куски пищи, вытащенные из урн или украденные, чтобы подкормить детей… Дети, чьи отчаянные вскрики или — еще страшнее — смех, звучащий тут чудовищной нелепостью. (Это были единственные человеческие голоса, которые можно было услышать, потому что люди переговаривались шепотом.) Еще были слышны кишечные звуки и хрип стариков, умиравших от воспаления легких.
Страдание как бы облепляло всякого, кто спускался сюда. Смерть была рядом… И тем более странным казалось то, что тут билась яростная жажда жить. Подростки не хотели погибать. Под зеленоватой кожей, покрытой грязью и струпьями, пульсировала молодая кровь, в головах лихорадочно работал мозг, не тормозимый никакой моралью. Страх смерти был сильнее страха поимки и наказания. Бесшумно и быстро, подобно уэллсовским морлокам, они шмыгали в полутьме, и было видно, что они заняты, что они действуют.
Там, наверху, вокруг вокзала, шли непрерывные облавы, полиция свирепствовала — она привыкла обращаться с людьми, как со скотом, — но пока ловили одних, другие грабили и убивали. Подростки действовали группами, они нападали скопом и, разделавшись с человеком, тащили захваченное в черноту туннелей. Там начинался раздел. Награбленное становилось предметом быстрых и бесшумных драк, а иногда азартной игры. Мы застали одну такую игру.
Когда мы подошли, раздалась короткая команда, игравшие замерли, один, бросавший кости, закрыл их руками: вероятно, таков был уговор на случай опасности. Два десятка глаз уставились на нас. Пламя костра отражалось в них. Корреспондент газеты, меня сопровождавший, быстро взял меня под руку и стремительно увел в темноту. Короткая команда опять упала в тишину, вместе с ней упали, вероятно, и кости.
— Сюда надо ходить с пистолетом, — шепнул мне переводчик сердито.