Книги
Мурашов
Владимир Соколовский, автор романа «Возвращение блудного сына», повестей «Облако, золотая полянка», «Старик Мазунин», «До ранней звезды», сборника «Мальчишки, мальчишки…», хорошо известен нашему читателю. Юрист по образованию, писатель, прежде чем взяться за перо, сменил несколько профессий: работал слесарем, экскаваторщиком, следователем, преподавателем…
Новая книга В. Соколовского написана в приключенческом жанре и адресована молодому читателю.
В центре повести — трудная судьба армейского разведчика Павла Мурашова, заброшенного летом 1944 года в небольшой бессарабский городок, оккупированный фашистами…
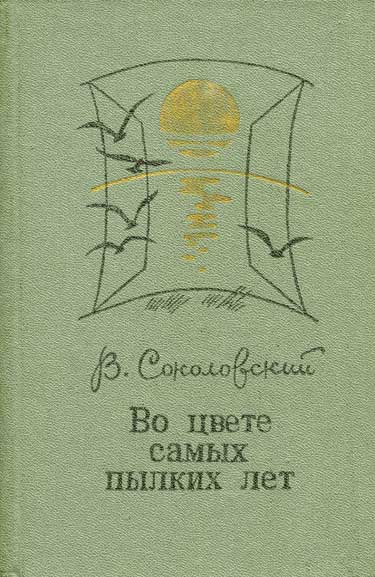
1.0 — создание файла, сканирование, вычитка — Pawel.

Владимир Соколовский
МУРАШОВ
Повесть
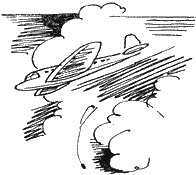
1
До войны здесь стоял огромный щит с рекламой бегов. По зеленому, вытоптанному в круге полю неслись кони. Крайний — гнедой, он прямо вырывался со щита: мощная, широкая грудь, изогнутая в напряжении шея, оскаленная морда… Здорово! Видно, художник любил лошадей.
Когда шли бои, неподалеку упал снаряд, щит повалился на землю и сильно обгорел. А стоял он у самой городской границы и будто отгораживал крайние строения от сколоченных на скорую руку хижин, землянок, что грудились за окраиной. Теперь от них остались только ямы, в одной из таких ям и ютился Мурашов. Немцы дважды выжигали дощатые лачуги и землянки, якобы из санитарных соображений; выжигались попутно и жившие тут люди: цыганские и еврейские семьи, раненые, другие отставшие в отступлении красноармейцы, бродяги и темный люд из не успевшей эвакуироваться тюрьмы. Особенно много погибло в первый раз. Обезумевшие, залитые огнем, люди рвались к огнеметным командам, и солдаты — те, кто пожалостливее, — достреливали их. Во второй раз сгорело уже меньше. Все это рассказал Мурашову старый цыган, — теперь в обгоревших ямах жил только он со своей широкой, оплывшей, горбатой от горя женой да пятилетним внучонком. И сам Мурашов — капитан из армейского разведотдела. Но он-то обитал здесь считанные дни, и ничто не связывало его с этой выжженной землей, а у старика погиб тут весь табор — на его глазах. С женой и внуком он ушел тогда утром в город, и, вернувшись, они увидели с небольшого пригорка оцепление и огнеметы… Когда цыган рассказывал это, его потерянное в бороде лицо словно совсем исчезало — только источались слезы из-под зажмуренных век. «Надо идти в степь!» — говорил Мурашов. «Нет, нет, — качал головой старик и прижимал к себе курчавого внука. — Михай остался последним в моем роду, я не могу умереть с ним в степи. Миха, Миха, чавэлэ…» Капитан удивился: что случилось со старым бродягой — он стал бояться открытой земли? В степи и правда было опасно — где там, на продуваемой со всех сторон равнине, спрятаться от неутомимо шныряющих жандармов и патрулей? Над Бессарабией навис фронт, власти ожесточены и напуганы до предела, ловят и стреляют, наивно рассчитывая тем оттянуть неизбежное… Мурашов сам еле ушел от патрулей, пытаясь пробраться к фронту.
Цыган со старухой вырыли землянку, обложили свод ее обгорелым, натащенным с руин кирпичом, наносили дерн на крышу; однако в войну любое, даже и самое крепкое жилье не бывает надежно, а уж земляночка-то эта — совсем чепуха, не более чем вид… Дед словно не понимал этого, все укреплял и укреплял ее. Когда появился Мурашов, старик стал приходить вечерами к его яме, делился жмыхами, которые воровал для семьи на румынской конюшне. Солдаты-румыны наверняка догадывались об этом, однако не гнали старика, не жаловались на него офицерам: за то, что он знал лошадей, помогал кузнецу, за кусок того же жмыха или мамалыги мыл животных, чистил конюшню, чинил упряжь, бегал к лавочнику по поручениям. По сути, он и кормил весь свой почти разрушенный род. «Миха, Миха, чавэлэ…» Старуха уползала с утра гадать и просить милостыню, — это тоже было весьма опасно, могли в любую минуту задержать и утащить в префектуру, оттуда дорога вела в приземистый каменный дом — местную тюрьму, а дальше — лишь к Ямам, пустому и мрачному месту километрах в двух от города. Там раньше добывали глину и делали кирпичи, а теперь — расстреливали людей, не нужных фашистской власти или, по ее мнению, не имеющих права на существование. Так что у цыганки не было бы в этом случае ни единого шанса выжить. Подавали ей мало, приносила она сущую чепуху, однако каждый день, словно на работу, бабка ходила и ходила на люди — сказывалась, видно, и многолетняя привычка, и натура, и потребность хоть как-то подпитать сознание иллюзией старой, довоенной жизни. Пока деда с бабкой не было, мальчишка их оставался в развалинах один. Из города к нему наведывались иногда сверстники, молдавские ребятишки, — тогда они играли вместе, бегали по выжженным пригоркам. Но приходили отцы и матери, отыскивали пацанов, били их, цыганенка, тащили детей домой, подальше от страшного места. Мальчик опять оставался один, плакал где-нибудь в ямке или тихо играл с тряпкой, деревяшкой, воображая их игрушками.
Это — некая жизнь, протекавшая в те дни перед глазами капитана Мурашова. Такая тихая, полуреальная, под знаком смерти. Нет фронта, нет плена. А гибель все равно ходит по пятам за человеком. Однажды солдат застрелит деда за украденный жмых. Уведут бабку в приземистый дом. Мальчишку… Конечно, огнеметных команд теперь в городе не было, они давно ушли со своими частями, но во всякий момент могло прийти кому-нибудь в голову устроить здесь обыкновенную облаву. Сам Мурашов вырыл на этот случай надежную небольшую нору с тщательно обработанным входом, чтобы укрываться там при появлении жандармов, других охранных отрядов, просто чужих людей. И дни свои проводил либо в норе, либо рядом с нею, не отдаляясь больше чем на пять-шесть метров. Он и цыганенка пытался приучить сидеть тихо рядом, покуда не понял: это бесполезное дело. Тот и пяти минут не мог провести в одной позе: гримасничал, дергался, лопотал; вдруг вскакивал и убегал. Присутствие чужого взрослого будоражило его. И вот появись здесь вооруженные люди, оцепи они этот изрытый, испепеленный пустырь, — мальчику не уйти от них. Заметят, вытащат откуда угодно. Солдаты — те могут просто пристрелить мимоходом, и это будет для пацана еще не худший вариант. Местные стражники уволокут с собой для допроса. А потом все равно сдадут в тюрьму, в жестко фильтрующие руки уполномоченных гестапо. Те уж позаботятся, чтобы цыганенок не остался в живых. Причем каждый стражник в отдельности может не испытывать к Михаю, маленькому чавэлэ, последней надежде древнего рода, никакой неприязни. И, встретив где-нибудь, не обратить внимания, может быть, даже сунуть кусок сухаря или кукурузный початок. Блюстители порядка были здесь в большинстве своем ленивые, брюзгливые, с толстыми щеками, любили поговорить о лошадях, о нравах, навести страху на рынке. Однако одно дело, когда человек несет службу в одиночку и действует по своему усмотрению. Стоит же нескольким таким служителям соединиться вместе для выполнения какого-то приказа, задания, и характер каждого из них в отдельности как бы перестает существовать, он уже не имеет значения. Есть только Идея, которой они служат, в данном случае — Порядок. И люди, объединившиеся для лихих целей, не знают уже ни добра, ни милости. Задержавший цыганенка стражник, как бы ни любил он детишек, уже не отпустит его: он на виду у других полицейских, и Порядок висит над всеми, безжалостный. Нарушившему его открыто — своему, чужому ли — надлежит принять мучительную гибель в его медленных челюстях.
Об этом, да и еще о многом другом думал капитан Павел Мурашов, лежа в яме среди развалин и поглядывая кругом. Дерганый, привыкший на фронте быстро работать мозг гнал и гнал новые ситуации, варианты поведения…
Допросив цыганенка и вызнав от него о неясном человеке, живущем в развалинах, жандармы соберутся снова и поплетутся обратно, на новую облаву. Возьмут Михая, он покажет им нору. В промежутке между их уходом и возвращением Мурашову надо будет уйти. Куда? Этому городку он чужой, совсем чужой, там его никто не ждет и не примет. На улицах, в людных местах торчать неизвестному в городе человеку тоже нельзя — засекут и доложат, куда следует. Ладно, допустим, он найдет укромное безопасное место где-нибудь в заброшенном подвале. Хотя… Откуда может взяться заброшенный подвал? Молдаване, здешний народ, дорожат землей, она у них впустую не пропадает.
Значит — только в степь. А там — да куда бы он ни ушел, шанс ускользнуть от наводнивших степь патрулей ничтожно мал. Кроме них, есть и сельские стражники, или те же крестьяне — тоже ведь попадаются разные…
2
Ни одна из явок, полученных им в разведотделе, не была уже рабочей, действующей. Он оказался один — на чужой земле, среди чужих людей. Когда Мурашов уходил с последнего адреса, от дома учительницы Аурики Гуцу, провожаемый мрачным взглядом ее сожителя, он уже еле помнил себя. Тесный каленый обруч стянул голову, в глаза словно сыпанули песку. И люди удивленно глядели ему вслед — приземистому, машущему в такт шагу руками, быстро идущему мимо дядьке. В бараньей шапке, свитке, рубашке не первой свежести, на ногах — пыльные постолы, сам чернявый, с круто вьющимся волосом, — он ничем внешне не отличался от них, но больно уж дик был его вид. Ну и мало ли что могло случиться с человеком! Может быть, его обокрали, или вручили негодный товар, или заболела лошадь…
Приказ был поставлен четко, конкретно, боевая задача для группы капитана Мурашова — сбор и передача данных о местности, характеристика населенных пунктов в полосе наступления армии, их оборонное значение, гарнизоны, вооружение — уяснена, отработана на нужных уровнях. И вот так получилось… Начальник разведотдела подполковник Лялин на последнем инструктаже задал Мурашову и радисту Грише Кочневу обычный вопрос: «Ну, что мы еще не обговорили? Если остались напоследок какие-то неясности — прошу!» Гриша пожал плечами, глянул на капитана: спрашивайте, мол, у старшого, я величина маленькая.
«Ну что, комбат, я слушаю тебя». Мурашов повел головой, словно выворачивая шею из гимнастерки, поднялся. «О чем еще говорить, товарищ подполковник? Приказ отдан, и его надо выполнять, так я понимаю». «Ну, комбат…» — каким-то неопределенным голосом произнес начальник разведотдела. Комбат так комбат. Для Мурашова, вчерашнего фронтового командира батальона, ничего обидного в этом слове не было. Хотя он и понял, что хотел сказать Лялин: «Да, браток, не получается из тебя разведчика, каким ты был окопником, таким и остался». «Что ж, ребята… — подполковник приблизился, пожал обоим руки, обнял. — Паша, Гриша, давайте. Если даже и остались какие-то претензии, — что теперь говорить о них? Только учти, Паша, — там все может оказаться очень непросто. Явки ведь старые, еще довоенные. А других людей, которых можно было бы использовать для разведки на этом направлении, у нас нет. Может, и были, да расхватали, пока нашу армию сюда перебрасывали. Штаб трясет данные, а нам и сказать нечего. Так что надежды на вас большие, действуйте. На первый взгляд, вприкидку, городок, который мы определили как базовый для резидентуры, — тихий, достаточно захолустный, без сколько-нибудь мощного и постоянного воинского контингента. Следовательно, по идее, гестапо и контрразведка тоже должны там работать вполсилы. Но тут-то и может быть опасность. Тут-то и опасность…»
«В чем, товарищ подполковник?» — спросил Гриша. «Вот даже затрудняюсь сказать. На меня, как на разведчика, эти городки всегда непростое впечатление производят. В большом городе легче. Там везде, ко всему можно примениться, почувствовать себя своим, потеряться. А тут… все, вроде, как на ладони, и все не твое. И каждый может так за штаны ухватить, что не только без них, а без шкуры останешься. Так что ушки держите на макушке. Ну, и если что — по обстановке смотрите, действуйте, тут рецепта на любой случай быть не может. Если уж подопрет и почувствуете, что до фронта не дотопать, пытайтесь выходить на линию Ниспорены — Бобейка — Котовск — Молешты — Чимишлия, этот район мы контролируем, ищите партизан, может, повезет… Но я на вас надеюсь, повторяю!..» Он толкнул дверь, выходя из одиноко стоящей в роще мазанки, где жили разведчики. Следом вышел майор Перетятько, отвечавший за операцию. Скоро майор вернулся, потер бритый затылок, хохотнул: «Братцы, братцы… Была мне теперь от Лялина добра бучечка… А я шо могу сделать? У меня больше нет никого. Да и Павлик с Гришей нас не подведут, все сделают так, как положено…» «Что значит — не подведут? — бледнея, спросил Мурашов. — Ты не уверен в нас, так надо понимать? И подполковник тоже? Тогда уж лучше не посылайте. Ну, Гавря, товарищ майор, не ожидал я от тебя…»
Гриша тоже насупился, заморгал, отвернулся. «Да что-о вы! — закричал Перетятько, вплескивая руками. — Ведь совсем не в том, не в том смысле, перестаньте! О Грише вообще разговору нет, он и радист, и разведчик проверенный. А в твоей, Паша, личной храбрости и командирском умении только дурак усомнится. Разве ж о том разговор? Лялин, видишь, что толкует: дескать, вообще Мурашов никакой не тыловой разведчик, не был им и никогда не будет. Нет гибкости, приспосабливаемости, того, сего… А я его убеждаю: ни в чем сейчас нельзя быть уверенным. Может быть, у него как раз все пойдет отлично. Иной ведь дурак дураком смотрится (Мурашов усмехнулся: „Ну, спасибо, товарищ майор“), а в деле показывает себя лучшим образом. Лялин послушал, послушал меня, потом и говорит: „Может быть, и твоя, Перетятько, правда“, — сел в машину и уехал. Что ты, разве в твоей храбрости кто-то сомнение поимел? Вернешься — мы тебя на курсы пошлем, вообще классного разведчика из тебя сделаем, Паша!» «Ну, это уж положим. Все равно уйду обратно, на батальон. Да хоть на роту, только на передок». «Так мы тебя и отпустили… ха-ха… Ладно, дело сделано, что теперь толковать, давайте закусим немного…»